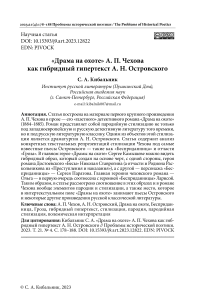«Драма на охоте» А. П. Чехова как гибридный гипертекст А. Н. Островского
Автор: Кибальник С.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья построена на материале первого крупного произведения А. П. Чехова в прозе - его «газетного» детективного романа «Драма на охоте» (1884-1885). Роман представляет собой пародийную стилизацию не только под западноевропейскую и русскую детективную литературу того времени, но и под русскую литературную классику. Одним из объектов этой стилизации является драматургия А. Н. Островского. Статья содержит анализ конкретных текстуальных репрезентаций стилизации Чехова под самые известные пьесы Островского - такие как «Бесприданница» и отчасти «Гроза». В главном герое «Драмы на охоте» Сергее Камышеве можно видеть гибридный образ, который создан на основе черт, с одной стороны, героя романа Достоевского «Бесы» Николая Ставрогина (а отчасти и Родиона Раскольникова из «Преступления и наказания»), а с другой - персонажа «Бесприданницы» - Сергея Паратова. Главная героиня чеховского романа - Ольга - в первую очередь соотнесена с героиней «Бесприданницы» Ларисой. Таким образом, в статье рассмотрено соотношение в этих образах и в романе Чехова вообще элементов пародии и стилизации, а также место, которое в интертекстуальном поле «Драмы на охоте» занимают пьесы Островского и некоторые другие произведения русской классической литературы.
А. п. чехов, а. н. островский, драма на охоте, бесприданница, гроза, гибридный гипертекст, стилизация, пародия, пародийная стилизация, полемическая интерпретация
Короткий адрес: https://sciup.org/147242027
IDR: 147242027 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12822
Текст научной статьи «Драма на охоте» А. П. Чехова как гибридный гипертекст А. Н. Островского
Т ема «Чехов и Островский» широка и многоаспектна, и ей посвящено уже немало исследований (см.: напр.: [А. Н. Островский, А. П. Чехов…]). В меньшей степени освещено с этой точки зрения раннее творчество Чехова.
Между тем, как было показано еще Р. Г. Назировым, «Драма на охоте» представляет собой роман-пародию [Назиров: 159–160]1. Однако точнее было бы говорить все же не о пародии, а о гипертексте с элементами не только пародии, но и стилизации, то есть как о произведении, в котором воспроизводится сюжетная структура его претекста и при этом имеет место как пародия, так и стилизация под него. Данная пародия направлена не столько на уголовный роман Э. Габорио и А. А. Шкляревского, сколько на наиболее актуальную в 1880-х гг. русскую классическую литературу2. Это прежде всего произведения Пушкина, Лермонтова (cм.: [Пруайар], [Виноградова]), Гоголя, Островского, Тургенева, Льва Толстого и др.
Совершенно исключительную роль в «Драме на охоте» играют пародийные аллюзии на произведения Достоевского. Можно сказать, что в известной мере «Драма на охоте» — это вообще развернутая пародия Чехова на Достоевского — в первую очередь на его романы «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы». Причем эта развернутая пародия одновременно представляет собой полемическую интерпретацию этих романов (см. подробнее: [Кибальник]).
Чехов показывает, что реальный убийца не может быть похож на довольно привлекательный (несмотря на совершенные убийства) образ Раскольникова. Недаром редактору газеты, в которую Камышев приносит свою повесть, он, Камышев, «гадок». В то же время по отношению к образу Дмитрия Карамазова, с которым Камышев схож и фамилией, и любовью к цыганам, чеховский герой представляет собой своеобразную деконструкцию. В противовес ложно обвиненному Мите перед нами реальный убийца, разгуливающий на свободе, в то время как за его преступление осужден другой человек3.
Напомню, что герой чеховской «Драмы на охоте» Иван Петрович Камышев свою повесть «Драма на охоте (Из записок судебного следователя)» рассказывает от имени Сергея Петровича Зиновьева. В повести его зовут так же, как и героя «Бесприданницы» А. Н. Островского Паратова, а его отчество, как и отчество стоящего за ним реального лица, — «Петрович», возможно, представляет собой неполную анаграмму фамилии «Паратов»4. Есть в нем и другие черты «блестящего барина», каким является герой Островского5. Таким образом, Камышев явно соотнесен с Паратовым, однако его фамилия, по всей видимости, не случайно напоминает не только фамилию «Карамазов», но и фамилию еще одного героя «Бесприданницы» — Карандышева. Так что уже в именовании главного героя чеховской «Драмы на охоте» есть элементы определенного снижения.
После довольно пространной экспозиции в романе начинает складываться любовный треугольник, напоминающий отношения между Паратовым, Ларисой и Карандышевым. Олень ка готовится в ыйти замуж за пожилого управляющего графа
Карнеева, который носит пародийно обыгранную фамилию героя драмы М. Ю. Лермонтова — «Урбенин». Будущее замужество Оленьки возмущает Зиновьева-Камышева, но сам он, однако, не предлагает ей выйти замуж за него и даже пока не состоит с ней в любовных отношениях.
По сравнению с «Бесприданницей» в «Драме на охоте» те же сюжетные элементы переставлены местами: Паратов, добившись любви Ларисы, уезжает, так что, если бы не ее гибель, она была бы принуждена выйти замуж за Карандышева. Если Паратов соблазняет Ларису незадолго до ее свадьбы, то у Чехова это происходит еще более скандальным образом: Оленька отдается Камышеву во время свадебного обеда. Это, естественно, только усиливает ассоциации Урбенина с Карандышевым.
Став любовницей Зиновьева-Камышева, Оленька сначала начинает вести себя примерно так же, как Лариса Островского, и заявляет:
«— Теперь мне, как говорится, море по колено! <…> Я тебя люблю и знать ничего не хочу» ( Чехов : 325).
Однако как только Камышев проявляет несвойственную Паратову в отношениях с Ларисой решительность: «— Сию минуту едем ко мне, Ольга! Сейчас же!» ( Чехов : 326), — она выказывает совсем несвойственное Ларисе житейское благоразумие:
«И бог знает что выдумал! Убежать сейчас же после венца! Что люди скажут!» ( Чехов : 327).
Чеховские Паратов и Лариса здесь как будто бы на время поменялись местами.
Впрочем, скоро в Зиновьеве-Камышеве сказывается Каран-дышев с присущей ему переменчивостью и трусливостью ( Чехов : 332). Он уже сожалеет о своем порыве:
«Ходил я из угла в угол, болел от сострадания к Ольге и в то же время ужасался мысли, что она поймет мое предложение, которое сделал я ей в минуты увлечения, и явится ко мне в дом, как обещал я ей, навсегда!» ( Чехов : 332).
Тем самым Камышев напоминает «подпольного парадоксалиста» Достоевского, который вначале убеждал Лизу бросить ее ремесло и дал ей свой адрес, а когда она пришла к нему, испугался.
Далее события у Чехова развиваются таким образом, что пьеса Островского оказывается как бы вывороченной наизнанку. Вначале ее сюжет гиперболизируется: Оленька становится любовницей не только Зиновьева, но и князя. А затем ее убивает не муж, а первый любовник-следователь.
Попутно отметим, что фамилия князя « К а рн ее в » — неполная (хотя и полная консонантная) анаграмма фамилии « Кн у р о в ». Как и Кнуров, Карнеев тоже женат, только не явно, а пока тайно для большинства окружающих. Это делает его похожим скорее на Паратова, который еще не женат, но обручен, и тоже тайно.
Прямую соотнесенность с сюжетом «Бесприданницы» в какой-то степени подготавливают в романе Чехова отсылки к другой пьесе Островского — «Гроза». Они обнаруживаются в пространной экспозиции романа:
«— Вы боитесь грозы? — спросил я Оленьку. <…>
— Боюсь, — прошептала она, немного подумав. — Гроза убила у меня мою мать… В газетах даже писали об этом… моя мать шла по полю и плакала… Ей очень горько жилось на этом свете… Бог сжалился над ней и убил ее своим небесным электричеством.
— Откуда вы знаете, что там электричество?
— Я училась» ( Чехов : 271).
Упоминание Оленькой «электричества» показывает, что, в отличие от Катерины Островского, она владеет сведениями, которые в городе Калинове были доступны только Кулигину.
У Островского гроза пугает Катерину и вызывает ее публичное признание в измене мужу. Чеховская Оленька пока еще безгрешна, а гроза влечет ее только тем, что «убитые грозой и на войне и умершие от тяжелых родов попадают в рай»:
«Мне кажется, что и меня убьет гроза когда-нибудь и что я буду в раю…» ( Чехов : 271).
Гроза для нее всего лишь антураж воображаемой ею «страшной, но эффектной смерти»:
«Мне вот как хотелось бы умереть. Одеться в самое дорогое, модное платье, какое я на днях видела на здешней богачке, помещице Шеффер, надеть на руки браслеты… Потом стать на самый верх Каменной Могилы и дать себя убить молнии так, чтобы все люди видели… Страшный гром, знаете, и конец…» (здесь и далее выделено мной. — С. К.) (Чехов: 272).
Героиня Островского в самом деле пугается грозы, признается в измене мужу и затем прыгает в Волгу с высокого берега. Героиня Чехова только рисуется и интересничает. Недаром на вопрос Зиновьева-Камышева: «Какая дикая фантазия! <…> А в обыкновенном платье вы не хотите умирать?» — она отвечает отрицательно, подчеркивая: «— И так, чтобы все люди видели» ( Чехов : 272).
Это высказывание Оленьки внутренне соотнесено со словами Ларисы, пугающейся пушечного выстрела с парохода, на котором возвращается Паратов:
«Л а р и с а. У меня нервы расстроены. Я сейчас с этой скамейки вниз смотрела, и у меня закружилась голова. Тут можно очень ушибиться?
К а р а н д ы ш е в. Ушибиться! Тут верная смерть: внизу мощено камнем. Да, впрочем, тут так высоко , что умрешь прежде, чем долетишь до земли» 6 .
Однако то, что для героини Островского составляет предмет реального страха, для чеховской Оленьки вновь — лишь повод покрасоваться перед людьми.
Чеховская Оленька во всем противоположна стремлениям Ларисы, которая уговаривает Карандышева уехать в деревню, подальше от Паратова:
«Меня так и манит за Волгу, в лес… ( Задумчиво ). Уедемте, уедемте отсюда!» ( Островский : 169). «Я ослепла, я все чувства потеряла, да и рада. Давно уж точно во сне все вижу, что кругом меня происходит. Нет, уехать надо, вырваться отсюда. Я стану приставать к Юлию Кап итонычу» ( Островский : 183).
Чеховская героиня сначала живет в лесу, и именно это обстоятельство она называет в качестве причины своего решения выйти замуж за старика Урбенина:
«— Вам это не нравится? Так извольте вы сами идти в лес… в эту скуку, где нет никого, кроме кобчиков да сумасшедшего отца… и ждите там, пока придет молодой жених!» ( Чехов : 309).
Следующая ее фраза: «Вам понравилось тогда вечером, а поглядели бы вы зимой , когда рада бываешь… что вот-вот смерть придет…» ( Чехов : 309) — прямо отсылает к предупреждениям Огудаловой, высказанным своей дочери:
«О г у д а л о в а. А вот сентябрь настанет, так не очень тихо будет , ветер-то загудит в окна.
Л а р и с а. Ну, что ж такое. <…> Все-таки лучше, чем здесь.
Я по крайней мере душой отдохну.
О г у д а л о в а. Да разве я тебя отговариваю? Поезжай, сделай милость, отдыхай душой! Только знай, что Заболотье не Италия » ( Островский : 183).
У Островского Кнуров и Вожеватов только собирались воспользоваться беспомощным положением Ларисы после того как она стала любовницей Паратова. У Чехова Карнеев и в самом деле им воспользовался7. Впрочем, инициатива принадлежала самой Оленьке.
Наконец, Лариса перед смертью благодарит Карандышева за его выстрел: смерть для нее «благодеяние». Чеховская Ольга вовсе не хотела умирать.
Убивает Оленьку Зиновьев за ее неосторожные слова:
«Не выйди я за Урбенина, я могла бы выйти теперь за графа!» ( Чехов : 415).
Однако то, что она позднее, уже перед самой смертью, не называет имени своего убийцы, доказывает, что Оленька все-таки любила Зиновьева. Если это и не уравнивает ее с Ларисой, то, по крайней мере, показывает, что она была не просто продажной женщиной. Поступок Ольги сближает ее с образами влюбленных куртизанок: Манон Леско, Маргерит Готье из «Дамы с камелиями» и «травиаты» Виолетты из одноименной оперы Дж. Верди.
Соответственно, и гибридный гипертекст Островского у Чехова превращается из откровенной пародии в пародию с существенными элементами стилизации, что характерно и для соотношения «Драмы на охоте» с другими ее претекстами, например — с произведениями Достоевского и пр.
Как Оленька по отношению к Ларисе, так и Зиновьев по отношению к Паратову — это отчасти стилизация, а отчасти пародия. При этом Чехов актуализирует в своих героях те качества, которые латентно заложены в персонажах Островского. Патетический трагизм образа Ларисы превращается под пером Чехова в дешевую рисовку, а безграничное самолюбие Паратова оборачивается в Камышеве тщетными претензиями на то, чтобы быть «необыкновенным» человеком. Таким образом, «Драма на охоте» оказывается не просто стилизацией и пародией, но и полемической интерпретацией «Бесприданницы».
В отличие от Островского и Достоевского, Чехов рассказывает историю своих героев скупо и сдержанно. Те чувства, которые у читателя Островского вызывают финальные патетические монологи Ларисы Огудаловой и Катерины Кабановой, у Чехова призвана вызвать сама картина очевидного несоответствия такой жизни норме.
Уже в этом произведении начинающего Чехова звучат и чисто чеховские нотки сарказма по отношению к героям. В отличие от Островского, у Чехова в своих несчастьях виноваты сами люди, а не общественная среда. И тем не менее из всего сказанного очевидно: литературное становление не только Чехова-драматурга, но и Чехова-прозаика шло через творческий диалог с драматургией Островского.
Список литературы «Драма на охоте» А. П. Чехова как гибридный гипертекст А. Н. Островского
- А. Н. Островский, А. П. Чехов и литературный процесс XIX-XX вв. М.: Intrada, 2003. 607 с.
- Виноградова Е. Ю. "Драма на охоте": пародийность и пародичность аллюзий // Чеховиана. Из века XX в XXI: итоги и ожидания. М.: Наука, 2007. С. 296-308.
- Вуколов Л. И. Чехов и газетный роман // В творческой лаборатории Чехова. М.: Наука, 2007. C. 209-214.
- Пруайар Ж. Де. Гордый человек и дикая девушка: размышления над повестью "Драма на охоте" // Чеховиана: Чехов и Пушкин. М.: Наука, 1998. С. 113-116.
- Кибальник С. А. Из истории детективной литературы в России: случай Чехова. СПб.: Петрополис, 2022. 264 с.
- Назиров Р. Г. Достоевский и Чехов: преемственность и пародия // Назиров Р. Г. Русская классическая литература: сравнительно-исторический подход: исследования разных лет: сб. ст. Уфа: РИО БашГУ, 2005. С. 159-168.