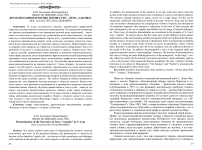Драматизация нарратива в повести С. Лема "Ананке"
Автор: Козьмина Елена Юрьевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 3 (46), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются способы драматизации нарративной структуры художественного эпического произведения. В специальной литературе это явление рассматривается как повышение речевой роли персонажей - увеличение их монологов и диалогов при уменьшении роли повествователя, чья речь сводится к комментариям-ремаркам. Кроме того, о драматизации повествования в эпическом произведении говорят тогда, когда речь основных субъектов становится более эмоциональной или передает черты устной речи. Повествование хоть и сохраняет свою природу, но стремится к сценическому изображению. Часто это органично сочетается с театральными мотивами в сюжете. Однако могут быть и другие способы драматизации повествования: усложнение композиционно-речевых форм, введение диалогизированных фрагментов-медитаций (размышлений персонажа в виде внутренней речи), использование графических возможностей для изображения внутренних диалогов и др. Эти способы драматизации повествования рассматриваются на примере повести С. Лема «Ананке». Ее анализ показывает, что вся повесть в целом сохраняет традиционное для эпики соотношение разных стилистических плоскостей и позиций основного субъекта речи и героя, но повествовательная структура одного эпизода оказывается драматизированной. Появ-ляются фрагменты, напоминающие ремарки в драматическом произведении. Одни из них даны в скобках, другие - без скобок. Ремарки в скобках оказываются паратекстом, они обращены непосредственно к читателю повести. Кроме того, голос героя в этом фрагменте раздваивается и приобретает вопросно-ответный, «понимательный» характер. Функция драматизации в этом случае - вывести «на сцену» внутренние мысли-тельные процессы главного героя, зримо изобразить поиски нужного слова и воспоминания, что в конце концов и приводит к разгадке тайны катастрофы космического ко-рабля. Повесть «Ананке», кроме того, включает отсылки к двум пьесам Шекспира («Буря» и «Гамлет»), повышая степень театральности всего произведения.
Повествование, драматизация повествования, ремарки, "рассказы о пилоте пирксе", "ананке", шекспир
Короткий адрес: https://sciup.org/149127085
IDR: 149127085 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00036
Текст научной статьи Драматизация нарратива в повести С. Лема "Ананке"
Повесть «Ананке» входит в знаменитый авторский цикл С. Лема «Рассказы о пилоте Пирксе», объединенный общим героем Пирксом и событиями, с ним происходящими. «Ананке» - финальная повесть цикла (опубликована в 1973 г); она развивает центральную проблему взаимоотношения человека и машины (в данном случае - компьютера космического корабля) в непривычном ракурсе воздействия больной человеческой психики на функционирование машины. По сюжету один из главных персонажей, Корнелиус, имел диагноз «ананкастический синдром», т.е. «невроз навязчивых состояний». Он «вымещал свои страхи на компьютерах “Синтроникса”» [Лем 1993, 366], а невротическое поведение Корнелиуса затем воспроизводилось бортовым устройством корабля «Ариэль», что в результате привело к страшной катастрофе во время посадки на Марс.
В расследовании причин катастрофы участвует главный герой цикла -Пирке; он единственный разгадывает загадку странного поведения вроде бы технически исправного компьютера. Изобразить этот процесс автор пытается, сделав эпическое повествование похожим на драматическое. Однако такое «драматизированное повествование» в «Ананке» устроено очень сложно, ведь на сцене должен действовать не человек, а его внутренние размышления; и, кроме того, такие эпизоды должны гармонично включаться в эпический нарратив.
Скажем несколько слов о том, как понимается термин «драматизация нарратива» или «драматизация повествования». Как кажется, устойчивого содержания понятия под таким названием не существует, хотя термин активно используется; в специальной литературе под ним понимаются разные, но в целом довольно схожие явления.
Во-первых, о драматизации повествования говорят, когда в повествовательной структуре начинают доминировать диалоги и монологи персонажей, а сегмент речи повествователя сокращается. Об этом пишет, например, О.Н. Турышева: «Драматизация повествования, то есть такой способ изображения, при котором повествователь уподобляется драматургу: он отказывается от комментария, предоставляя слово самим героям» [Турышева 2014, 35]. Слова повествователя в структуре высказывания с прямой речью могут восприниматься как ремарки. Так, А.П. Чудаков, характеризуя один из периодов творчества Чехова (1888-1894), определяет специфику повествования произведений этого времени так: «Увеличивается объем диалога (в соотношении с собственно повествованием). Так, в “Дуэли” есть главы (III, VII, XIII), построенные почти по драматическому принципу; ремарки повествователя имеют здесь чисто служебное значение» [Чудаков 1971, 73].
Во-вторых, драматизация воспринимается как способ передачи характера устной речи; например, Н.С. Демкова считает, что драматизированное повествование в сочинениях протопопа Аввакума «последовательно ориентируется на образный строй, синтаксис и основные принципы построения текста, присущие устной художественной прозе» [Демкова 1988, 303].
В-третьих, драматизацией повествования наряду с другими способами называют повышение эмоционального эффекта речи [Повзун 2007].
Если обобщить сказанное, то в целом можно охарактеризовать драматизацию повествования как повышение речевой роли актанта, действующего лица; а кроме того, актуализацию границ двух стилистических плоскостей - «авторской речи» (т.е., основного субъекта - повествователя или рассказчика) и речи персонажей. Эти факторы создают условия для большей активности героев, их выдвижения на первый план, а также размежевания и дивергенции голосов персонажей и основных субъектов речи, т.е. появлению внутри эпического повествования элементов «сценического изображения».
Кроме того, зачастую драматизации повествования сопутствуют театральные мотивы - скрытые или явные, в виде сценических действий персонажей или упоминаний / отсылок к драматургическим произведениям.
В повести «Ананке» театральность - тема, сопровождающая разгадывание главным героем Пирксом загадки крушения космического кора-бля-стотысячника. Это ощущается, прежде всего, в довольно прозрачных отсылках к пьесам Шекспира. Так, например, название разбившегося корабля («Ариэль»), несомненно, отсылает нас к пьесе «Буря». Кроме того, мы находим, может быть, не столь явные, но все же довольно определенные отсылки к трагедии «Гамлет»: во-первых, имя одного из центральных героев - Корнелиус (см. в «Гамлете»: Корнелий, придворный Датского короля); а во-вторых, один эпизод повести С. Лема «Ананке» напоминает театральную сцену гамлетовской «мышеловки»: «Сомневаться не приходилось: Корнелиус попался в ловушку, как мышь;...» [Лем 1993, 373] («Cornelius tkwil w potrzaskujak mysz...» [Lem 1995, 214]). Пирке устраивает «мышеловку» для Корнелиуса почти так же, как Гамлет для Клавдия; при этом Пиркса, в полном соответствии с характером отсылки, угнетает «театрально-напыщенный стиль, в котором ему пришлось действовать» [Лем 1993, 373] («koturnowo-teatralny styl» [Lem 1995, 215]). В этом ракурсе поступок Корнелиуса (самоубийство и предсмертная записка) и их описание повествователем могут быть прочитаны как изображение поединка с Пирксом: «Словно выразил Пирксу и деловое одобрение, и одновременно полнейшее презрение за коварно нанесенный удар» [Лем 1993, 373].
Если же обратиться непосредственно к повествованию, то нужно признать, что всю нарративную структуру повести драматизированной назвать нельзя; она как раз представляет собой почти классический образец эпического жанрового нарратива повести, с традиционным соотношением стилистических плоскостей повествователя и героя: у повествователя -«авторитетная резюмирующая позиция», «причастность к “последней” истине», те. «существенный смысловой избыток» (М.М. Бахтин), а повествование доминирует над «сценическим изображением» [Тамарченко 2007, 20-21]. Однако один эпизод, как кажется, несколько выбивается из этой традиции и в свете рассматриваемой проблемы заслуживает особого внимания.
Эпизод начинается со слов «Пирке замер» и заканчивается словами «Невроз навязчивых состояний» [Лем 1993, 363-364]. Повествовательная структура этого эпизода представляется драматизированной, причем на глубоких уровнях нарратива: здесь мы наблюдаем не только повышение речевой роли актанта, но и усложнение композиционных форм речи.
Эпизод сообщает о мыслях героя и его воспоминаниях/припоминани-ях, приведших Пиркса к разгадке тайны; этот способ повествования называют медитацией - рассуждениями повествователя «по поводу хода событий, его участников или складывающейся ситуации» [Тюпа 2006, 50]. При этом В.И. Тюпа отмечает театральный характер медитации: «медитация в мире персонажей “не слышна”... Подобно драматургической реплике “в сторону” она обращена только к читателю» [Тюпа 2006, 50]. Медитативной может быть не только речь повествователя, но и высказывание героя (в данном случае - Пиркса); в выбранном фрагменте оно - «акт автокоммуникации, мысленного разговора с самим собой» [Тюпа 2006, 50].
Проанализируем повествование в эпизоде более подробно. Все начинается со слов повествователя, которые затем (уже с третьего предложения) переходят в несобственно-прямую речь: двуголосое слово, включающее общее высказывание основного субъекта речи (повествователя) и героя - Пиркса («Но что это было, собственно?»). Дальнейшие фразы еще больше усложняются: голос героя в составе несобственно-прямой речи распадается на два голоса - спрашивающего и отвечающего («Что он из- водил подчиненных? Ну и что? Ничего»), Спустя несколько высказываний мы обнаруживаем, что часть из них оказывается заключенной в скобки: («“Может, это?” - Пирке для проверки придержал ход мысли») / («Теперь это было похоже на игру в “горячо - холодно”». Он чувствовал, что сейчас удаляется...») и др.
Кроме того, нарративная структура анализируемого фрагмента включает вставные тексты (например, статьи из толкового словаря), но не как отдельное высказывание, а как один из голосов (если это можно так назвать) в составе несобственно-прямой речи. Таким образом, эти высказывания становятся уже трехголосыми (повествователь, герой, вставной текст): «Он открыт том наугад, на “Ан”. Ана. Анакантика. Анакластика. Анаконда. Анакруза. Анаклета. (Вот ведь сколько всяких слов не знаешь. ..) Анализ, аналогия, ананас, Ананке (греч.); богиня судьбы. Это?.. Но что же общего имеет богиня с... Также: принуждение».
Последний абзац эпизода дан с точки зрения Пиркса; сначала - в словах повествователя («Он увидел белый кабинет...»), а затем вводится вставной текст с четкими границами, графически маркированными кавычками («Уоррен Корнелиус; диагноз: ананкастический синдром») с дальнейшим переходом к несобственно-прямой речи, сочетающей слово повествователя со словом героя («Разве он не поинтересовался, что означает этот диагноз?»).
Казалось бы, такая слитность разных голосов в одном высказывании -это прямая противоположность драматизации повествования, где голоса персонажей и их интенции как раз должны разделяться. Однако обратимся к срединной части эпизода, где появляются высказывания в скобках. По функции они представляют собой комментарии («Это слово всплыло неизвестно откуда. Теперь это было похоже на игру в “горячо - холодно”»). При этом другие высказывания, выполняющие, вроде бы, ту же функцию комментария, не заключены в скобки: чуть ранее, например, мы встречаем такую бесскобочную, комментирующую состояние героя, фразу: «Пирке чувствовал себя как мальчишка, который молниеносно сжал руку в кулак, чтобы поймать жука, и смотрит теперь на кулак, боясь его разжать».
В чем же тогда разница между «скобочными» и «нескобочными» высказываниями?
Если присмотреться внимательней, окажется, что комментарии без скобок связаны с внешним образом Пиркса, с визуализацией его внутренних переживаний или действий («Пирке сидел съежившись»; «Пирке чувствовал себя как мальчишка, который молниеносно сжал руку в кулак...» и т.д.) Скобки появляются лишь там, где комментируются не столько действия или состояния самого Пиркса, сколько движение его мыслей, поиски нужного слова'.
-
• «“Может, это?” - Пирке для проверки придержал ход мысли»;
-
• «Теперь это было похоже на игру в “горячо - холодно”. Он чувствовал, что сейчас удаляется...»;
-
• «Опять не то»;
-
• «Это слово всплыло неизвестно откуда»;
-
• «Перепутал он их, что ли? Да. Но анонимка не хотела уходить. Странно - он не мог отцепиться от этого слова. Он все энергичней его отбрасывал, а оно со все более идиотской навязчивостью возвращалось»;
-
• «Вот ведь сколько всяких слов не знаешь...»
Субъектом таких комментариев может быть как повествователь, так и одновременно повествователь и Пирке (двуголосое слово). Очевидно, что скобки выводят комментирующие высказывания «в сторону», в паратекст, и обращен этот паратекст не к герою, не к другим персонажам, а к читателю. Именно нам поясняется, что происходит с мыслями героя, как и куда они движутся, где попадают в тупик («Опять не то»), как и откуда приходит точное слово, обозначающее разгадку.
Действующими субъектами (актантами) в таком случае оказываются мысли и внутренние слова, они как бы разыгрывают сцену активного, визуализированного поиска отгадки. Это полностью соответствует представлению о драматургическом действии, которое, по словам П. Пави, «не сводится к простому перемещению или ощутимому сценическому движению. Оно также существует... в его (персонажа - Е.К.) дискурсе (речи). ... Любое слово, произнесенное со сцены, действенно более, чем где-либо, и в этом смысле говорить - значит делать» [Пави 1991, 66]. Добавим: думать, а также понимать, - тоже значит делать.
В этом смысле не случайно и то, что движение мысли Пиркса показано с помощью раздвоения его голоса («Что Корнелиус болен и симулирует здоровье? Что ему грозит инфаркт?.. Да нет же. Анонимка - это совсем другая история...»). Вопросно-ответная форма - это форма понимания («... при понимании - два сознания, два субъекта. .. .Понимание всегда в какой-то мере диалогично» [Бахтин 1997, 318], - писал М.М. Бахтин).
В таком случае анализируемый абзац представляет собой драматизированный нарратив; повествование, имитирующее сцену, где в качестве актантов действуют мысли, требующие понимания, а авторство ремарок, обращенных к читателю, принадлежит повествователю и герою.
Драматизация повествования делает для читателя ход мысли Пиркса почти зримым. Сам Пирке, однако, не так ясно ощущает происходящие в нем мыслительные процессы: в голове у него - «вязкая тина»; темнота: «мысли вслепую задели за что-то», «слово всплыло неизвестно откуда», слово заслоняет собой какое-то другое, является «ложным знаком». И только когда слово найдено и появляется отгадка - видимая, зримая -появляется и свет: пелена спала, Пирке видит белый кабинет, открытое окно (свет связан именно с отгадкой, т.к. первоначально Пирке воспринимал гибель корабля как дело «чрезвычайно темное» [Лем 1993, 331]). Зримость (во всяком случае, для Пиркса) соотносится с истиной, правдой; в самом начале повести Пирке, реагируя на замечание Боулдера по поводу высоких технических характеристик компьютера на корабле «Ариэль», говорит: «...не поверил бы, если б не видел собственными глазами» [Лем 1993,333]).
Любопытно, что Пирке в начале фрагмента изображен «как стеклянный». Это означает не только его хрупкость, боязнь двинуться, но и прозрачность, в том числе, видимо, и ментальную.
Для читателя зримым становится ход к отгадке, а сама по себе отгадка зрима уже не только для читателя, но и для Пиркса; он ее видит, хотя и как будто из Зазеркалья, наоборот («Он вовсе не старался прочесть машинописный текст, но глаза сами уцепились за печатные буквы: он еще мальчишкой настойчиво учился читать тексты, перевернутые вверх ногами»), Таким образом, его внутренние размышления и отгадка становятся объективированными, а сам герой занимает позицию вненаходимости к образу отгадки, т.е. к своим собственным размышлениям. При этом сцена отгадки напоминает театральную: Пирке видит открытое окно, спину врача (очевидно, он подошел к телефону и отвернулся), а «печатные буквы» диагноза оказываются перевернутыми вверх ногами (значит, они лежат на столе перед врачом). Это как будто взгляд зрителя из зала, когда поднят занавес («Пелена упала»).
Весь этот маленький фрагмент показывает читателю повести «Анан-ке» «преобразование исходной ситуации» [Кургинян 1964, 243], как это происходит в драматическом произведении. В «Ананке» это преобразование означает поворот от тайны к ее разгадке, обнаружение, снятие пелены с тайны, именно поэтому и требует драматизации эпического повествования.
В этой связи отметим важное для С. Лема (встречающееся и в других его произведениях, например, в романе «Расследование») значение антитезы «истинное - ложное». Вся повесть «Ананке» построена на этом противопоставлении: любая истина оказывается заслоненной, подернутой пеленой неких ложных явлений или конструкций. Снятие пелены - сложный процесс, далеко не всем доступный (так, эпизод, рассказывающий о создании комиссии для расследования и собственно хода этого расследования именно о том, что истину ищут не там и не так).
Ложное/истинное в «Ананке» связано с планетой Марс, о которой Пирке очень много размышляет. Он считает, что истинное лицо Марса длительное время было заслонено представлением о нем как об обитаемой планете, мыслями о марсианах, построивших каналы. Пирке рассуждает об ареографах так: «они проецировали свои мечты в космическую даль, вместо того чтобы задуматься о самих себе» [Лем 1993, 370]. И это - прямая параллель с действиями комиссии по расследованию катастрофы космического корабля «Ариэль». Пирке, наблюдая за ходом их работы, делает похожий вывод: «кто забирался в дебри теории компьютеров и там искал причины катастрофы, удалялся от сути дела» [Лем 1993, 370].
Истина оказывается внутри себя; внутри собственного мира. Совершенно не случайно размышления Пиркса изображаются как временная смерть, т.е. переход в другой (в данном случае - в собственный внутренний) мир: «Не раздеваясь, он улегся на походную койку, .. .закинул руки за голову и лежал недвижимо, глядя в низкий потолок, почти не дыша» [Лем
1993,339].
Драматизация здесь достигается вовсе не с помощью внешнего разграничения голосов повествователя и героя и выдвижения слова героя на первый план. Это происходит благодаря раздвоению голоса самого героя глубоко внутри его сознания и представления его читателю в вопросно-ответной ипостаси. Кроме того, это раздвоение углубляется еще и графическим способом - заключением отдельных высказываний в скобки, что в целом напоминает драматургические ремарки. Глубинная драматизация нарратива позволяет вывести на сцену особых персонажей - мысли главного героя повести и рассказать / показать особую историю поиска истины.
Список литературы Драматизация нарратива в повести С. Лема "Ананке"
- Бахтин М.М. Проблема текста // Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 5. М., 1997. С. 306-326.
- Демкова Н.С. Драматизация повествования в сочинениях протопопа Аввакума // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 41. Л., 1988. С. 302-316.
- Кургинян М.С. Драма // Теория литературы: в 3 т. Т. 2. М., 1964. С. 238-362.
- Лем С. Ананке // Лем С. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 4. М., 1993. С. 319-374.
- Пави П. Словарь театра. М., 1991.
- Повзун Е.В. Драматизация эпического повествования в романе Джейн Остен «Гордость и предубеждение» (1813) // Веснiк БДУ. Сер. 4. 2007. № 1. С. 46-50.
- Тамарченко Н.Д. Русская повесть Серебряного века. (Проблемы поэтики сю-жета и жанра). М., 2007.
- Турышева О.Н. История зарубежной литературы. Реализм. Екатеринбург, 2014.
- Тюпа В.И. Анализ художественного текста. М., 2006.
- Чудаков А.П. Поэтика Чехова. М., 1971.
- Lem S. Opowieści o pilocie Pirxie. Т. 2. Warszawa, 1995.