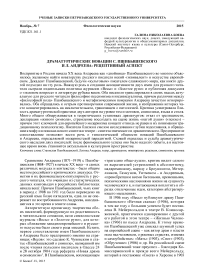Драматургические новации С. Пшибышевского и Л. Андреева: рецептивный аспект
Автор: Боева Галина Николаевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (152), 2015 года.
Бесплатный доступ
Восприятие в России начала ХХ века Андреева как «двойника» Пшибышевского во многом объяснялось желанием найти новаторству русского писателя некий «эквивалент» в искусстве европейском. Декадент Пшибышевский, будучи «культовым» писателем славянского мира, как никто другой подходил на эту роль. Важную роль в создании ассоциативности двух имен для русского читателя сыграли издательская политика журналов «Весы» и «Золотое руно» и публичная дискуссия о «половом вопросе» в литературе рубежа веков. Оба писателя транслировали в своих пьесах актуальную для русского читателя философию пессимизма и индивидуализма, причем различия между «философией пола» Пшибышевского и метафизическими поисками Андреева зачастую игнорировались. Оба обращались к острым противоречиям современной жизни, в изображении которых часто концентрировались на исключительном, граничащем с патологией. Критика усматривала близость драматургической практики двух авторов на уровне тем и мотивов, символики, языка и стиля. Много общего обнаруживается в теоретических установках драматургов: отказ от зрелищности, декларация «живого символа», стремление воссоздать на сцене жизнь «нагой души» («психе») -причем этот ключевой для европейского модернизма концепт отнюдь не равен в их понимании традиционному психологизму. Писатели близки в смелом исследовании глубин подсознания, в обращении к мифу и в поисках нового синтеза в театре - синтеза эпического и драматического. Предпринятое сопоставление позволяет вести речь о типологической общности новаций Пшибышевского и Андреева, определяемой модернистской парадигмой. Схожей оказалась и судьба драматургического наследия двух писателей: после феноменального успеха оно было надолго забыто, а в настоящее время вновь становится актуальным в культурном пространстве.
Станислав пшибышевский, леонид андреев, театр, драматургия, новаторство, рецепция, символизм, критика
Короткий адрес: https://sciup.org/14750980
IDR: 14750980 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Драматургические новации С. Пшибышевского и Л. Андреева: рецептивный аспект
Сравнение Андреева (1871–1919) с Пшибы-шевским (1868–1927) в начале ХХ века – в самых различных модусах и контекстах – было общим местом российского критического дискурса. Отметим и их феноменальную популярность у русского читателя, что очевидно из статистических данных книговыдач в российских библиотеках начала века1. Причем Пшибышевский, чьих книг в период с 1908 по 1911 год было переведено на русский язык более пятидесяти, едва ли не опережает по востребованности Андреева, находившегося в это время в зените славы.
Авторитетную пропаганду творчества обоих писателей, формирующую их родственность в читательском сознании, вели символистские журналы «Весы» и «Золотое руно», для которых сближение западноевропейского и русского искусства было своего рода миссией. Кстати, первое сопоставление имен Пшибышевского и Андреева было предпринято именно на страницах «Весов»: это сделано К. Чуковским в статье «Пшибышевский о символе», написанной им после чтения польским писателем в Одессе 24 и 28 октября 1904 года реферата «Новая драма и символизм»2. В Пшибышевском, воплощающем
«трагедию обще-души», критик видит одного из выразителей устремлений к абсолютному, надвременному, наряду с Броунингом, Метерлинком, Гамсуном, Уитменом – и Андреевым, «пренебрегшим всеми бытовыми, временными, психическими наслоениями жизни на сущность человеческого я, и пытающимся воплотить в образах отвлеченные идеи, категории абстрагирующего мышления».
В 1906 году «Весы» публикуют драму Пши-бышевского «Вечная сказка» (1906), которая в том же году с большим успехом будет поставлена В. Мейерхольдом в театре В. Комиссар-жевской, практически одновременно с другой его работой в этом театре – «Жизнью Человека» (1906) по пьесе Андреева. К этому времени Пшибышевский уже снискал шумный успех на европейской сцене – как автор драм о власти пола над человеком, о роковых страстях, изменах и самоубийствах: «Мать» (1903), «Снег» (1903), «Обручение» (1906) и др. На российской сцене Пшибышевский тоже преуспел – благодаря Ко-миссаржевской и прежде всего Мейерхольду, который в постановке «Снега» в Херсоне в 1903
году закладывает основы своего новаторского режиссерского метода.
Журнал «Золотое руно» (1906–1909) – другой авторитетный орган печати символистов, главный оппонент «Весов» и еще более амбициозная «площадка» для смотра наиболее интересных молодых литературных сил Европы. Уже в первом номере, провозглашая в качестве источника искусства душу (центральное понятие в эстетике Пшибышевского, поэта «нагой души»), редакция обозначает близость своих установок художественным поискам Европы. Примечательно, что одна из пьес Пшибышевского – вполне в духе символистской образности и жизнетворческого мифологизма, транслируемых со страниц журнала, – называется «Złote runo» («Золотое руно», 1901).
За три года существования «Золотого руна» произведения Андреева и Пшибышевского не раз соседствуют на его страницах, причем с явным количественным перевесом последнего. Интересно, что знакомство русского читателя с теорией пола Пшибышевского, изложенной им в статье «К этике пола», осуществляется тоже на страницах этого журнала. Таким образом, имена Пшибышевского и Андреева попадают в общее смысловое поле, невольно сближаясь и в контексте дискуссии о «половом вопросе»3. Разъясняя свою теорию пола, Пшибышевский пишет о «половом инстинкте» как о дремлющем в каждом культурном человеке («homo sapiens», по названию его романа) звере – как тут российскому читателю было не вспомнить недавнюю шумиху вокруг «Бездны».
Творчество Андреева и Пшибышевского в критическом дискурсе начала века сопрягается в самых различных контекстах – от философского до психиатрического и психопатологического (Ф. Рыбаков, В. Львов). Приведем только одну, но очень знаменательную книгу, сближающую их в контексте «больного искусства»: «критикопсихологический очерк о Л. Андрееве, Пшебы-шевском (в правописании автора так. – Г. Б. ) и др. современных писателях» под примечательным названием «Кошмары жизни» О. Кубе4. Обращает на себя внимание то, что автор, ориентируясь на «дух времени», а возможно, и не без конъюнктурных расчетов, выносит в заглавие своей книги только два имени «современных писателей» – Андреева и Пшибышевского.
Наконец, важным этапом в осмыслении творчества Пшибышевского стала статья А. Белого «Пророк безличия» (1909), представляющая собой интерпретацию творчества польского писателя с позиций символизма [3]. В основу этой статьи (впервые опубл.: Киевская мысль. 1909. № 133 (15 мая)) легла лекция «Современность и Пшибышевский», прочитанная им в марте 1909 года в Киеве, а еще раньше, в ноябре 1908 года, в театре В. Комиссаржевской перед спекта- клем по пьесе Пшибышевского «Вечная сказка». Фиксируя отсутствие у Пшибышевского связей между внешним и внутренним, то есть того, что составляет самую суть символа, Белый «отмежевывает» Пшибышевского от символистов [3; 13], как отказывает он (в статье «Анатэма») в праве называться символистом и «сентенционисту» Андрееву [2; 372].
Несомненно, читатель русских газет и журналов был в курсе всех приведенных нами высказываний и сопоставлений, а медийный дискурс активно впитывал авторитетные мнения и продолжал их развивать.
Драматургическая практика русского и польского писателей стала еще одной сферой сопряжения их имен в прессе, и тенденция ссылаться на Пшибышевского при анализе андреевских пьес была весьма устойчивой.
Так, одесский фельетонист, подписавшийся Гном, усматривает в андреевской «Жизни Человека» явное влияние Пшибышевского – и в языке, и в символизме образов, и в общей для них философии пессимизма5. По поводу пьесы Андреева «Анфиса» (1909) в «Обозрении театров» появляется рецензия с примечательным названием «Возврат к “полу”», автор которой констатирует обращение Андреева к «жгуче жизненной» «проблеме пола»: «над пьесой клубится пряный дух Пшибышевского»6 . «Трагедию пола», «нечто из Станислава Пшибышевского» увидел в «Анфисе» и С. Глаголь7. Близость символико-мистических образов Бабушки в андреевской «Анфисе» и Мокриной в «Снеге» Пшибышевского подмечает В. Шмидт8. Наконец, Е. Колтоновская сопоставляет «Савву» (1906) с романом Пшибышев-ского «Дети Сатаны» (1899) [5] . Как видим, пьесы Андреева и Пшибышевского воспринимались в едином русле символистско-декадентской литературы.
В 1913–1914 годах, уже имея репутацию успешного драматурга, Андреев пишет два письма о театре [1] (запланированное третье так и не было написано), в которых делится своими мыслями о новой драме. Десятилетием раньше, чем Андреев, Пшибышевский тоже обнародовал свои идеи о театре будущего: в программном эссе «О драме и сцене» (О dramacie і scenie) – сначала на польском языке, в 1902 году, а два года спустя – в журнале «Театр и искусство» (1904. № 49–50) на русском. Во взглядах, изложенных в декларациях двух писателей, можно обнаружить много сходного – и в культе души на сцене, и в провозглашаемом обоими отказе от театра как зрелища, и в требовании убедительности игры. Вслед за Пшибышевским, отрицающим «туманные символы» и предлагающим вывести на сцену «живой символ» [6; 318], во плоти и крови, Андреев выражает сомнение в том, что символистские пьесы в духе Метерлинка способны быть психологически убедительными. «Нагая душа» Пшибышевского – некий прообраз андреевской «психе», исследование глубин которой должно, как считает автор писем о театре, стать единственным содержанием новой «синтетической драмы».
Вообще, панпсихизм, по Андрееву, вызрел уже в творчестве Чехова и в практике русского психологического романа (отсюда, по его мнению, обращение Художественного театра к постановке на сцене Достоевского). Романы Пшибышевского, безусловно, тоже были логически необходимым звеном в его собственной драматургической практике, тем более что типологически они чрезвычайно близки его же пьесам – и транслируемой философией, и мо-тивно-тематическим репертуаром, и типажами, и стереотипными ситуациями. В творчестве Андреева явным шагом в направлении межродового синтеза стали трагедии «Анатэма» (1909) и «Океан» (1911), крайне напоминающие «драмы для чтения» (Ledensdrama) – последняя первоначально даже имела жанровый подзаголовок «опыт романа-трагедии». Для обоих, как видим, не только на практике, но и на программном уровне граница между эпическим и драматическим весьма прозрачна.
Может показаться, что Андреев акцентирует внимание на мысли как на одном из главных героев драмы «панпсихе», в то время как Пши-бышевский ее игнорирует и концентрируется исключительно на душе . Вероятно, формат эссе не позволял ему проговорить все обертоны теории «нагой души», но в романе «Сыны земли» (1906) Пшибышевский устами героя – Черкасского, который с триумфом ставит в Кракове свою пьесу и рефлексирует над своим успехом с беседе с приятелем Шарским, – формулирует недостающее, требуя вывести на сцену сердце и мозг человека9 .
Заметим, что душа – ключевое понятие во многих эстетических декларациях новой драмы (и вообще нового искусства, если вспомнить ме-терлинковское «евангелие символизма «Сокровище смиренных» (Le Tresor des humbles (1896), эстетическое кредо журнала «Золотое руно»), расстающейся с культом идей на сцене. Очевидно, что Андреев, как и Пшибышевский, выстраивает свои положения о театре на этом ключевом для европейского модернизма концепте, вкладывая в него, впрочем, содержание, свойственное новой эпохе и не сводимое к традиционному психологизму – отсюда желание обоих писателей найти этому понятию иное определение («нагая душа», «психе», «панпсихизм»). «Обнажение» на сцене потаенных глубин души у обоих драматургов часто имело мифологическую праоснову: ключевой в творчестве Пшибышевского миф об андрогинности человека; изображение заглавной героини как воплощения морбидного женского начала, с проекцией на Саломею, в пьесе Ан- дреева «Екатерина Ивановна» (1912); опора на миф о «вечном возвращении» и метаморфозах души-Психеи в его же пьесе «Тот, кто получает пощечины» (1915). Воссоздавая в жизнеподобных декорациях и обстоятельствах мятежную, экстатическую жизнь души и предлагая в своих пьесах некий художественный синтез театральной традиции и собственно новаций, оба автора рисковали мотивированностью характеров и положений, что часто ставилось им в упрек.
Подведем итоги. Основанием для сближения драматургии Пшибышевского и Андреева служили и явственно осознаваемая критикой близость мировоззренческих и эстетических установок двух писателей, и их художественная практика – на уровне мотивно-тематического репертуара, символики, языка и стиля. Оба писателя транслировали в своих пьесах актуальную для русского читателя философию пессимизма и индивидуализма, обращались к острым противоречиям современной жизни, в изображении которых концентрировались на исключительном, граничащем с патологией. Важную роль в создании ассоциативности двух имен для русского читателя сыграли издательская политика журналов «Весы» и «Золотое руно» и актуальная в критическом дискурсе дискуссия о «половом вопросе» в литературе.
Во многом восприятие Андреева как «двойника Пшибышевского» (в том числе в драматургических опытах) носило характер поиска прецедентности новациям русского писателя в европейском искусстве, знаковой фигурой которого воспринимался польский декадент. Пшибы-шевский, обладатель статуса культового автора в славянском культурном пространстве, пропагандист философии Ницше, экстатик и жизне-творец, как нельзя лучше подходил на эту роль: во-первых, он ассоциировался с европейским искусством, во-вторых, все-таки являлся частью и российского / славянского культурного пространства тоже. Русская критика и русский читатель часто сближали Андреева и Пшибы-шевского как выразителей ницшеанского духа дерзновенного индивидуализма, забывая о существенном различии мировоззренческих установок двух писателей – абсолютизации пола в философии польского писателя и близкой к экзистенциализму метафизике писателя русского. Индивидуальные контуры двух художественных миров зачастую сливались в общие очертания «декадентства».
Наконец, следует учесть и то обстоятельство, что у Пшибышевского и Андреева могли быть, помимо Ницше, и другие общие «учителя». А именно П. Бурже, повлиявший на дискурс о декадансе в Германии [7] (Пшибышевский, начинавший как немецкоязычный писатель, не мог не знать его «Эссе о современной психологии» («Essais de Psychologie Contemporaine» (1883))
и на молодого Андреева (роман Бурже «Ученик» (1889), построенный на коллизии страстей, идей и экспериментирования, стал одним из метасюжетов в творчестве Андреева и отчасти «жизнетворческой практикой») [5] . Таким образом, в случае Андреева и Пшибышевского можно вести речь о типологической общности поисков, определяемой модернистской парадигмой. Если принять к сведению близость драматургических установок двух писателей, рецепция пьес Андреева современниками «в шлейфе» театральных опытов Пшибышевского предстает более понятной и внутренне мотивированной.
Предпринятое сопоставление позволяет увидеть в творчестве двух писателей художественно-смысловые универсалии эпохи, обнаружить некую инвариантность линий развития драматургии на рубеже веков. Не вызывает сомнения чуткость обоих писателей к ритму культурноисторического процесса, что позволило им предугадать и наметить в своих драматургических исканиях тенденции, связанные с новыми формами культурного синтеза в театре – в частности стремление к синтезу эпического и драматического, к повороту от «идейности», взращенной позитивизмом, к исследованию души, глубин подсознания. Очевидно также, что практика сценической реализации драматургических новаций Пшибышевского и Андреева наталкивалась на одинаковые препятствия, связанные с инерционной театральной культурой того времени, и только в случае новаторского режиссерского подхода к их пьесам (Мейерхольд) возникал успех воплощения.
Творческое наследие Пшибышевского и Андреева постигла схожая судьба. Литературные репутации обоих писателей можно описать как последовательную смену статусов: «модный / популярный автор», «вытесненный из актуального литературного сознания», «вновь вернувшийся к читателю». Очевидны актуализация драматургических новаций обоих писателей в наше время, возрождение интереса к их пьесам, о чем свидетельствуют их многочисленные современные переиздания и постановки.
Список литературы Драматургические новации С. Пшибышевского и Л. Андреева: рецептивный аспект
- Андреев Л. Н. Письма о театре//Собрание сочинений: В 6 т. М.: Худ. лит., 1996. Т. 6. С. 509-558.
- Белый А. Анатэма//Белый А. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 8. М.: Изд-во «Республика»: Изд-во «Дмитрий Сечин», 2012. С. 370-373.
- Белый А. Пророк безличия//Собрание сочинений: В 9 т. Т. 8. С. 10-19.
- Козьменко М. В. Писатель Поль Бурже и гимназист Леонид Андреев: (Круг чтения и парадигмы поведения и письма)//Новый филологический вестник. 2009. № 3 (10). С. 108-116.
- Леонид Николаевич Андреев: Библиография. Вып. 2а: Аннотированный каталог рецензий Славянской библиотеки Хельсинкского университета/Сост. М. В. Козьменко. М.: ИМЛИ РАН, 2002. 168 с.
- Пшибышевский С. О драме и сцене//Пшибышевский С. Заупокойная месса: Проза, пьеса, эссе. М.: Аграф, 2002. С. 303-320.
- Хвостов Б. А. Литература декаданса в Германии (к современному состоянию проблемы)//Новые российские гуманитарные исследования. Электронно-периодическое издание ИМЛИ РАН. 2012. № 7 . Режим доступа: http://www.mgumis.ru/artides/artide_MLphp?aid=446&bmn_rubrik_pl_artides=196.