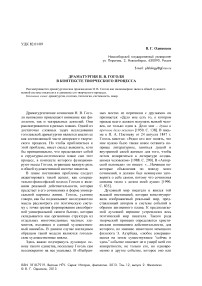Драматургия Н. В. Гоголя в контексте творческого процесса
Автор: Одиноков Виктор Георгиевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются драматургические произведения Н. В. Гоголякакзакономерное звено в общейхудожественной системеписателяив динамике его творческогопроцесса.
Драматургия, поэтика, типология, системность, жанр
Короткий адрес: https://sciup.org/147218733
IDR: 147218733 | УДК: 82.01/09
Текст научной статьи Драматургия Н. В. Гоголя в контексте творческого процесса
Драматургические сочинения Н. В. Гоголя неизменно привлекают внимание как филологов, так и театральных деятелей. Они рассматриваются в разных планах. Одной из достаточно сложных задач исследования гоголевской драматургии является анализ ее как составляющей части авторского творческого процесса. Но чтобы приблизиться к этой проблеме, имеет смысл выяснить, хотя бы принципиально, что представляет собой в структурно-поэтическом плане сам этот процесс, в контексте которого функционируют пьесы Гоголя, играющие важную роль в общей художественной системе писателя.
В плане постановки проблемы следует акцентировать такой аспект, как созерцательно-философский подход Гоголя к явлениям реальной действительности, которая предстает в его сочинениях в форме универсальной картины жизни. Гоголь, условно говоря, как бы подсказывает исследователю мысль рассмотреть его поэтическую систему с точки зрения формирования своеобразной универсальной «книги бытия», которая складывается как органичная структура из отдельных многочисленных частных элементов, входящих в единый художественный ансамбль. В данном случае наглядным образцом такой модели являются гоголевские художественные циклы.
Здесь важно подчеркнуть духовную основу такого единства, поскольку Гоголь сам неоднократно на нее указывал. В «Выбран- ных местах из переписки с друзьями» он признается: «Дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всякий человек, не только один я. Дело мое – душа и прочное дело жизни» [1950. С. 138]. В письме к П. А. Плетневу от 24 августа 1847 г. Гоголь заметил: «Редко кто мог понять, что мне нужно было также вовсе оставить поприще литературное, заняться душой и внутренней своей жизнью для того, чтобы потом возвратиться к литературе создавшимся человеком» [1988. С. 290]. В «Авторской исповеди» он пишет: «…Начавши некоторые объяснения по поводу моих сочинений, я должен был неминуемо заговорить о себе самом, потому что сочиненья связаны тесно с делом моей души» [1990. С. 835].
Духовный мир писателя и явился той высшей инстанцией, которая конституировала изображаемый реальный мир, представленный автором в системе событий и образов жизненного плана. К предполагаемой духовной вершине устремлялся весь поэтический мир писателя. Такого рода творческий принцип определяется христианским пониманием действительности, для которого, по мнению известного немецкого филолога Э. Ауэрбаха, «любое совершающееся на земле существующее “сейчас и здесь” событие означает не в ущерб всей его конкретности, не только его, но одновременно и другое событие, которое оно или
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 2: Филология © В. Г. Одинокое, 2013
провозвещает, или же, повторением его, утверждает; связь между событиями усматривается в первую очередь не во временных или причинных отношениях между ними, но в единстве всего в пределах божественного замысла, составной частью, членами, отражениями которого являются все события…» [1976. С. 546]. Детальная расшифровка такого рода единства, в высшей степени присущего Гоголю, связана с феноменологическим подходом к интерпретации воссозданного им художественного мира.
Гоголь ощущал целостность мира и как художник, и как теоретик. В этой целостности сочетались трагедийные элементы бытия и спасительные откровения чисто религиозного плана. Характерно, что с точки зрения воплощения целостности мира он обратился как к образцам такого рода синтеза не к литературным произведениям, а к живописным шедеврам К. Брюллова и А. Иванова. Это были исходные моменты той феноменологической системы, популярное объяснение которой дал наш философ А. Ф. Лосев: «Феноменология – там, где предмет осмысливается независимо от своих частных проявлений, где смысл предмета – са-мотождествен во всех своих проявлениях. Это и есть единственный метод феноменологии: отбросивши частные проявления одного и того же, осознать и зафиксировать то именно, что во всех своих проявлениях одно и то же». Завершая свои рассуждения, А. Ф. Лосев замечает, что феноменология постулирует «необходимость до-теоретиче-ского адекватного узрения» [1990. С. 191]. Гоголевское творчество в его явных формах и скрытых интенциях представляет собой феномен, обнаруживающий духовную субстанцию мира, проявление высшего начала, которое постигается и осмысливается как единство многообразия. В данном случае хотелось бы подчеркнуть величие духа самого художника, целью которого выступало стремление постичь абсолютную Божественную истину.
Но не следует забывать, что Гоголь – основоположник «натуральной школы», открывшей широкую дорогу русскому реализму второй половины XIX в. В арсенале его художественных средств доминировали приемы, дававшие ему возможность изобразить универсальный поток жизни через реальную жизненную конкретику. Сочетание предметности мира с духовным его содер- жанием было задачей высшей сложности. И Гоголь с ней справился, выстраивая художественный мир своих произведений так, что обнаруживал свою идейную, эйдетическую сущность. Чисто технически проблема решалась с помощью циклической организации художественного материала. При этом отдельные «микроциклы» у Гоголя интегрировались и выступали в форме целостного поэтического ансамбля, который представлял собой своеобразную «книгу бытия».
Такое явление было замечено литературоведами (хотя ему и не уделялось должного внимания). Так, например, исследователь творчества Гоголя В. М. Крюков в книге «След птицы-тройки» писал: «Еще начинающим литератором Гоголь мечтал “одним взглядом обнять всё живущее”, “иметь сто аргусовых глаз, для того чтобы разом видеть сбывающееся во всех отдаленных углах мира”, “сжимать всё в малообъемный фокус” и двумя, тремя яркими чертами, часто даже одним эпитетом, обозначить вдруг событие или народ» [2008. С. 20].
К такого рода «фокусу» Гоголь сводил не только содержание одного отдельного цикла, но, в конечном счете, и все завершенные циклы, создавая, как уже сказано, гармоничный ансамбль, восходящий к аналогичным архитектурным формам, которые не прошли мимо внимания художника слова. В проблемно-художественном аспекте имеет смысл выделить крупным планом два оригинальных гоголевских цикла: «Арабески» и «Выбранные места из переписки с друзьями», которые в своей целостности и диалогической соотнесенности представляют феноменальную творческую манеру Гоголя, создавшего, по сути, своеобразную «энциклопедию» русской жизни, охарактеризованную и в теоретическом, и в художественном планах.
В статье «Шлецер, Миллер и Гердер» Гоголь писал: «Шлецер, можно сказать, первый почувствовал идею об одном великом целом, об одной единице, к которой должны быть приведены и в которую должны слиться все времена и народы. Он хотел одним взглядом обнять весь мир, всё живущее» [1994. Т. 7. С. 303]. В этом направлении развивалось и творчество самого Гоголя. В цикле «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголь мастерски завершил реализацию провозглашенного им принципа текстового ансамбля, составленного из, ка- залось бы, автономных фрагментов. Исследователь творчества Гоголя В. А. Воропаев, ссылаясь на авторитетное суждение архимандрита Феодора, заметил, что мысли Гоголя, «как они по внешнему виду ни разбросаны и ни рассеяны в письмах, имеют строгую внутреннюю связь и последовательность, а потому представляют стройное целое» [Воропаев, 2008. С. 96]. Далее автор специально подчеркнул, что такой целостный взгляд – «это прежде всего взгляд православного христианина», сознающего, что все материальные ценности должны быть подчинены «высшей цели и направлены к ней» [Там же. С. 100–101].
А теперь обратимся к гоголевской драматургии. Весь комплекс пьес Гоголя подчиняется «высшей цели», о чем будет сказано далее, и «направлен к ней». С точки зрения целостности художественного мира писателя драматургия смотрится как неотъемлемая часть энциклопедической картины жизни. Это обусловливает ее идейную и художественную значимость в творческом процессе Гоголя. Кроме того, Гоголь как писатель и как своеобразный архитектор намечает контуры теоретико-литературной системы. Мы имеем в виду использование им родовых и жанровых компонентов в строительстве гармоничного «поэтического храма», каким, в сущности, и является вся гоголевская художественная система. Разумеется, Гоголь не программировал постмодернистскую поэтику «крутого замеса» разнородных структурных элементов, но как художник он, очевидно, сразу почувствовал, что в его творчестве представлены репрезентативно лишь два поэтических рода: эпос и лирика, хотя последняя и выступает не в чистой родовой форме, а как лирическая стихия, проникающая в повествовательный стиль. Но в данном случае заметно было отсутствие в его творческом арсенале драмы как представителя третьего литературного рода. И Гоголь, грубо говоря, внедрил ее в свою художественную практику. Система родов литературы теперь получила свое завершение.
Следует заметить, что драматургия Гоголя в целом выступала не как элементарное «приложение» к эпосу как родовому началу, а сформировалась на другом уровне и функционально явила собой «подсистему». В этой подсистеме организующим центром объективно оказалась комедия «Ревизор», послужившая переходным «мостиком» от эпоса к драматургической поэтике, которая органично была связана с повествовательной прозой. Гоголь, предусматривая сценическое воплощение своей комедии, одновременно как бы предлагал ее для прочтения. Знаком этого предложения был эпиграф к пьесе («На зеркало неча пенять, коли рожа крива»), который даже при изощренном режиссерском воображении не мог реализоваться чисто театрально. Впрочем, автор попытался его как-то сценически «материализовать» в контексте комедии с помощью реплики Городничего: «Над кем смеетесь? – Над собой смеетесь». Комедия в этом ключе и являлась зеркалом, в котором отражалась «кривая рожа» современного Гоголю общества. В «Женитьбе» этот мотив обыгран в сцене, когда герой Подколесин рассматривает свою физиономию в настоящем зеркале и рассуждает на эту весьма деликатную тему.
Установка на «чтение» проявляется также в комплексе различного рода авторских пояснительных текстов, которые сопровождают комедию и вне которых невозможно уловить некоторые важные для автора смысловые оттенки предполагаемого сценического действия. Гоголь расширял драматургический контекст комедии за счет дополнительных материалов. Фактически он создавал не только конкретный игровой вариант произведения, но словесно-образный проект драматургического игрового поля. В это поле входили органично и его «маленькие комедии», о чем уже свидетельствует только что приведенная характерная деталь, связанная с темой зеркала, которая звучит в эпиграфе к «Ревизору»
Все драматургические опыты Гоголя нельзя понять, не соотнося их с названной комедией, но самого «Ревизора» нельзя понять вне той системы, которую мы назвали «книгой бытия». Эта условно названная «книга», как мы пытались показать, зиждилась на двух фундаментальных идеях: на идее «потрясения» и идее «спасения». Художественное выражение этих идей Гоголь нашел, как уже сказано, в гениальных творениях К. Брюллова и А. Иванова. Создавая свои драматургические произведения, писатель неоднократно к ним обращался. Крах мира и Лик Христа были конституирующими элементами в творческих замыслах, касающихся состояния мира и человечества.
А если это так, то Гоголь должен был и в драматургической форме, в этой части художественной системы, представить так или иначе трагедию и катарсис, связанный с идеей Христа как Спасителя. В результате творческих усилий Гоголь таки создал произведение, в основе которого лежала схематично отмеченная нами концепция. Однако при этом возникла как бы непредвиденная парадоксальная ситуация, Гоголь изобразил «потрясение» не в трагедийной форме, а демонстративно создал «комедию».
Но ничего сенсационного в плане системного, феноменологического подхода в этом факте не было. Логика исторического развития заключается в том, что комедия – закономерное завершение и необходимое звено исторического процесса. В этом не без основания убеждали нас в свое время и марксисты. Гоголь, признанный сатирик и обличитель, написав комедию, должен был неизбежно и закономерно видеть духовным оком и другую, противоположную стадию социального и общественного развития. Такая стадия теоретически осознавалась Гоголем, который при этом понимал, что она обязательно должна присутствовать запечатленной и в художественной форме совсем где-то рядом. Ему как драматургу не нужно было повторяться, поскольку определившаяся художественно-историческая задача уже была решена другим гением – А. С. Пушкиным в трагедии «Борис Годунов».
От этого ситуативного «порога» и начинается гоголевская драматургия, отмеченная закономерным появлением на литературной и театральной арене именно комедии. Широко известно, что к возникновению замысла комедии был причастен непосредственно и А. С. Пушкин. Но в данном случае важно то, что главным провоцирующим творческим элементом и стимулирующим явлением был сам текст пушкинской трагедии. Теоретическим откликом Гоголя на трагедию Пушкина была его рецензия на «Бориса Годунова», а практическим – «Ревизор».
В рецензии, озаглавленной «Борис Годунов. Поэма Пушкина» (1830–1831 гг.), Гоголь обронил знаменательную фразу, которая должна была определить его личное писательское отношение к созданию Пушкина, – «Ответные струны души гремят…» [Гоголь, 1994. Т. 7. С. 67]. Надо полагать, что они прогремели особенно громко тогда, когда Гоголь приступил к созданию своей поэмы – «Мертвые души». Но он слышал звуки этих струн в своей душе и ранее, в период создания «Ревизора». Гоголевский «Ревизор» умозрительно и чисто практически, с авторской точки зрения, самым «фатальным» образом предполагал наличие такого драматургического феномена, как трагедия Пушкина «Борис Годунов». А «Борис Годунов» потенциально требовал от Гоголя следующего шага в развитии «русской драмы». В общеисторическом плане оба драматурга затронули социально-политические коллизии времени, представив их проблемный комплекс в широкой и глубинной религиозно-философской перспективе.
Здесь следует сделать оговорку: только с точки зрения концептуального целого возможно и правомерно соотносить «Ревизора» с «Борисом Годуновым». Для этого нужно раскрыть гоголевскую «книгу бытия». В ней читателю открывается, как уже сказано, тема «потрясения» и рядом – тема «спасения». У Пушкина такая ситуация предопределила путь к трагедии, у Гоголя – путь к комедии, В русле общей проблемы потрясения и спасения они идут вместе до определенной точки «бифуркации», как определяют такое распутье философы. Логично в данном случае обратить внимание на то, как воплощает проблему потрясения и спасения Пушкин для того, чтобы увидеть решение подобного рода глобальной проблемы Гоголем.
При этом важно уловить общую нравственно-философскую и религиозно-этическую тенденцию, которая реализуется в процессе развертки общей идеи как в трагедийной, так и в комической тональности. Обратимся к Пушкину, который как бы предложил Гоголю продолжить концепцию трагедии и посмотреть на нее с другой позиции, которая обнаруживает не героическое состояние мира, а связана с мелким и ничтожным карьерным бытом, однако съедающим и поглощающим личность человека. При этом оба драматурга вышли на тот уровень, который определялся Ликом Спасителя мира и человечества.
Пушкин, возвышаясь над «Историей» Карамзина, по сути, затронул философско-этическую и религиозно-нравственную проблему, связанную с принципом постижения духовной истины в процессе реализации онтологической системы, которую в свое время представил П. Флоренский в статье «Иконостас». Философ подчеркнул, что истина с ее божественной сущностью открывается в результате реализации своеобразной триады, которую он определял как движение от «личины» к «лицу» и «лику». Онтологический смысл трагедии как раз и раскрывается в динамичной системе обозначенных понятий. Центральный персонаж трагедии освобождается от «личины» безжалостного, холодного убийцы, которая была порождена и навязана ему системой исторических совпадений, тенденциозно истолкованных впоследствии как факты, доказывающие преступное деяние «новоизбранного» царя. В трагедии предстает и вторая «личина» – фигура самозванца Гришки Отрепьева. Разоблачение Лжеди-митрия открывает народу сущность происходящих «театрализованных» трагических событий. Потрясенная масса людей в финале трагедии «молчит». И не просто «молчит», а «безмолвствует». Так сформулировано в пушкинской ремарке. А «безмолвие» – это внутренне скрытое «действие». В. Г. Белинский в свое время оценил его как созревание «бунта». Но в плане конкретной художественной реализации указанной «триады» логичней увидеть в этом акте молчания «безмолвную молитву». Это тем более справедливо, что в поэме «Полтава» Пушкин аналогичное состояние народа соотнес с безмолвной молитвой: «За упокой души несчастных // Безмолвно молится народ». В этот момент духовного очищения и возникает образ «Лика», так как такая молитва является принципиально важной составляющей частью Литургии Верных.
Гоголь разъяснил духовную сущность такого рода «безмолвия» в «Размышлениях о Божественной Литургии». Приведем в этом плане одну характерную цитату: «И когда совершится, наконец, это безмолвное моление всех и о всех, и хор поющих возгласит: “И всех и вся”, тогда громко возглашает Иерей “И даждь нам едиными усты и единым сердцем славити и воспевати пре-честное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков”» [Гоголь, 1990. С. 94–95]. Таким образом, трагедия «Борис Годунов» заканчивается не каким-либо внешним эффектным аккордом, а по самой глубинной сути – Символом веры, хотя и скрытым от поверхностного взгляда. Молчаливая молитва провоцирует в поэтическом плане возникновение духовной атмосферы, в которой рождается предощущение «Лика». По отношению к нему Пушкин и выстроил всю систему образов, определил направление внутреннего и внешнего драматургического действия. В поэтическом плане трагедии сошлись в одной точке судьбоносные линии отдельных персонажей и народа. Наступивший в результате этого катарсис явился знаком внутренней исчерпанности заложенной в произведение художественной идеи. Пушкину ничего не оставалось, как поставить «точку». Он ее и поставил, полностью реализовав свой замысел.
Но история продолжала свое движение. На трассе этого движения и оказался Гоголь. Его функция как драматического писателя была предопределена. Трагедийный катарсис в пьесе Пушкина заставил звучать поэтическую струну в душе Гоголя. Пушкинская эстетическая «программа» открывала для Гоголя-драматурга исторически обусловленный путь к идее духовного просветления не через трагедию, а через комедию – закономерную фазу на пути исторического процесса. Поэтому нет ничего парадоксального в развязке «Ревизора», завершающегося «безмолвной» сценой, где, как и в пушкинской трагедии, проступают контуры «Лика», о появлении которого Гоголь, в сущности, сам предупреждал и тех, кто сидел в зрительном зале, и тех, кто лицедействовал на сцене.
В «Ревизоре» безмолвная сцена порождает катарсис, «комический» катарсис. Впрочем, для Гоголя комическое и трагическое находились в тесной связи. Ведь очищение смехом («над собой смеетесь») было связано не с каким-то второстепенным нравственным проступком, а с нарушением героями пьесы одной из важнейших Евангельских заповедей: не сотвори кумира. Поэтому персонажам и зрителям Гоголь как бы погрозил пальцем и призвал к покаянию ввиду явленного «Лика» в финальной сцене. Нужно заметить, что сатирико-комедийная природа пьесы для создания атмосферы катарсиса требовала особых художественных приемов.
Движение к «Лику» совершалось в комедии по модели уже упомянутой триады, которую позже в философско-гносеологическом аспекте представил П. Флоренский.
Вначале создается личина Хлестакова – «чуть ли не генералиссимуса», но Гоголь срывает эту личину. Дальше должно появиться «лицо», которое в реально-бытовом плане представляется как «настоящий ревизор», а в метафизическом подтексте комедии (богословском, по сути) трактуется автором как «настоящая совесть». Но если появилось «лицо», должен появиться и «Лик». И в «немой сцене» он появляется как «знак», как Мессия, испепеляющий «кумира» и освещающий тьму язычества отблеском Божественного света. Гоголь не отрывается от «земли», он творит в границах правдоподобия, в реалистических формах, но следует заметить, что это «реализм в высшем смысле», которого не чуждался и Пушкин. Пушкинский и гоголевский финалы органично уживались в одном художественном сознании автора «Ревизора». Они осмысливались Гоголем с точки зрения нравственного «потрясения» и возможности «спасения» через духовное озарение ввиду присутствия Божественного духа. В этом плане сосуществование трагедии Пушкина и комедии Гоголя было закономерным и исторически неизбежным.
Логика развития творческого гения Пушкина привела его к созданию трагедийной модели мира, которая предстала в цикле «маленьких трагедий». В них была запечатлена обобщенная философская картина жизни, которую последователь Пушкина Гоголь ассоциировал с «Последним днем Помпеи» К. Брюллова. Гоголю, как уже сказано, были близки и тема потрясения, и тема духовного спасения, нашедшие отражение в картине Брюллова. Присутствие в создании художника «Божьего духа» подтвердил и святитель Игнатий (архимандрит Сергиевой пустыни), который в письме к Брюллову заметил, что его картина – «выражение сильно жаждущей души», и она как являющая подлинную красоту должна быть «помазана Духом» [Гоголь, 1994. Т. 3–4. С. 505–506].
Гоголь, сопрягая в своем творческом сознании «Бориса Годунова» и «Ревизора», повторил процесс движения, развития пушкинской «трагедийной» мысли, но, естественно, уже на комедийном уровне. Трагедийное «потрясение» сменилось «комедийным», но при этом оба финала были «помазаны Духом». Следует обратить внимание на то, что пушкинские «маленькие трагедии» эхом отозвались в гоголевском творческом сознании, и он создает «маленькие комедии», которые представляют своеобразное продолжение «Ревизора» и являются художественными комментариями к этому центральному произведению. Не имеет смысла искать в творческом наследии Гоголя какое-то другое сочинение, к которому тяготели бы последовавшие за «Ревизором» различного характера драматургические опусы и фрагменты. Пушкинская драматургическая «модель» является в этом плане авторитетной комментирующей «подсказкой».
В данном случае следует уточнить лишь одно обстоятельство, которое связано с жанровой спецификой пушкинского трагедийного ансамбля. На первый взгляд кажется несколько странным, что комедиограф Гоголь повторяет структуру трагедийного цикла Пушкина, его движение от трагедии к «маленьким трагедиям». Гоголь выдвигает аналогичную модель, но движется он от комедии к «маленьким комедиям». Однако суть этого повторения заключается не в элементарной ассоциативной связи, не в простом внешнем сходстве, как замечает исследователь драматургии Гоголя И. Л. Вишневская [1976. С. 5], а в повторении жанровой вариативности материала, каким оперирует Пушкин. Гоголевская комедия «Ревизор» возникла не просто в результате элементарной жанровой трансформации трагедийного «первоисточника», а, можно сказать, с «подачи» самого Пушкина, который предложил вначале следующий содержательно важный заголовок пьесы: «Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и Гришке Отрепьеве». Исследователь драматургии Пушкина С. А. Фомичев отмечает, что в этой формулировке проступала не просто стилизация «под старину», а «акцентировалось смеховое начало произведения» [Пушкин, 1996. С. 6]. Этим самым Пушкин проложил мостки к гоголевской комедии. Заметим также, что и «Маленькие трагедии» открываются не «чистой» классической трагедией, а трагикомедией. Таким образом, задача Гоголя заключалась в том, чтобы пушкинскую комическую стихию превратить в жанровую доминанту. И он создает «основную» комедию «Ревизор» и концентрирующуюся вокруг нее драматургическую «ауру» – «маленькие комедии».
Высший уровень данной драматургической системы отмечен именем Шекспира, к которому обращались и Пушкин, и Гоголь. Но они вносили добавочно от себя в контексты собственных произведений особую духовную атмосферу, определяемую текстами Священного Писания. Для Пушкина важно было сочетать шекспировскую «мастеровитость» с воплощением духовного начала, характерного для русской национальной культуры. В совокупности все эти факторы формируют и драматургическую основу пьес Гоголя. Они и определяют его универсальную художественную систему, в которой драматургия занимает свое законное место. Биограф Пушкина Ариадна Тыркова-Вильямс отметила, что «в михайловском уединении Шекспир уже не сходил со стола Пушкина, где лежал бок о бок с Библией» [Тыркова-Вильямс, 2010. С. 64]. Можно с полным правом сказать, что Шекспир и Библия оказались и на столе Гоголя-драматурга.
Специфика финалов пушкинской трагедии и гоголевской комедии заключается в том, что шекспировский «поэтический свод», перекрывающий оба произведения, оказывается увенчан явлением «Лика». Духовная атмосфера, связанная с появлением «Лика», возникает в финалах обеих пьес. Воображаемый «Лик» появляется закономерно как результат «потрясения», дающего автору возможность, как пишет Гоголь, показать «всему свету, что в Русской земле все, что ни есть, от мала до велика, стремится служить Тому же, Кому все должно служить что ни есть на всей земле, несется туда же… кверху, к верховной вечной красоте!» [Гоголь, 1994. Т. 3–4. С. 463, 465].
Безмолвие народа у Пушкина – это не просто мертвая пауза, а «действие», обращение к Тому, Кому «всё должно служить», это «безмолвная молитва». Безмолвная финальная сцена у Гоголя – это аналог пушкинской сцены, хотя и транспонированной в комедийный план. Но духовный, сакральный смысл ее остается незыблемым. Гоголь глубоко осмысливал специфический оттенок такого молчания и специально писал об этом в «Размышлениях о Божественной Литургии». Он отметил, что безмолвная молитва является важной составляющей частью Литургии Верных. «Ревизор» и в этом плане стоял рядом с «Борисом Годуно- вым».
Если теперь обратиться к «маленьким комедиям», то можно обнаружить их место в раскрытии концептов «потрясения» и «спасения», на которых основывается гоголевская комедия «Ревизор». По отношению к ней они располагаются, условно говоря, этажом ниже, знаменуя собой знаковый по смыслу архитектурно-поэтический уровень, играющий важную роль в общем драматургическом ансамбле, который выстроил Гоголь в своем творческом воображении. Разрабатывая разнообразные темы и проблемные ситуации в «маленьких комедиях», Гоголь так или иначе поворачивает их к тому духовному ориентиру, который, как уже сказано, проступает в финальной сцене «Ревизора» 1.
Совершенно очевидно, что анализировать гоголевские пьесы следует, главным образом, не в хронологическом порядке, а в системном, и не по отношению к какому-то гипотетическому замыслу, а именно к «Ревизору». Можно констатировать, что основная масса драматургических текстов Гоголя – это своеобразный комментарий к комедии «Ревизор». Сам автор открыто и даже демонстративно «добавлял» к ней соответствующие драматургические комментарии, какими, например, являются «Театральный разъезд» и «Развязка Ревизора». Правомерно в этот список включить и самые значимые «маленькие комедии», коими являются «Игроки» и «Женитьба».
Значимость этих «экспериментов» заключается прежде всего в том, что первая пьеса варьирует тему игровой маски, которая в «Ревизоре» развертывается в третьем акте, в сцене хлестаковского «вранья», когда идет уже не маленькая, а большая игра чинов и административных положений. Этот момент важен и с точки зрения феноменологии. Социальный феномен, представленный в этой сцене, значителен с точки зрения универсального «чина» как «призрака» почти мистического плана. В «Игроках» выступает аналог «чина», «личина», происходит игра масок.
В «Женитьбе» повторяется тема четвертого акта «Ревизора», в которой предстает галерея определенных социальных типов. Аналогичная галерея в «Женитьбе» представлена уже не в образах взяточников и взяткодателей, а в образах «Женихов», которые предлагают свои услуги центральному лицу – невесте, играющему роль самого важного «чина» в данной ситуации. Нравственный смысл отмеченных сцен в названных комедиях не проступает в каких-либо целенаправленных авторских подсказках. Его можно выяснить только через соотнесенность рассматриваемых текстов с системообразующим текстом «Ревизора». Нужно заметить, что к «Игрокам» и «Женитьбе» тяготеют еще более мелкие, совсем «маленькие», комедии, такие как «Утро делового человека», «Тяжба», «Лакейская». Они знаменуют еще один уровень драматургических текстов, который можно назвать «микроуровнем». Вместе с тем эти пьесы обрастают добавочными смыслами в контексте второго, более высокого уровня, и все они вместе выступают интегрированно, в концептуальном плане, в свете авторских позиций, выраженных и постулируемых в текстопорождающей комедии «Ревизор». А эта пьеса встраивается уже во всю творческую систему Гоголя, которая через Пушкина прочитывается в контексте мировой драматургии, отмеченной именем Шекспира.
Теперь правомерно констатировать, что русская драматургия в лице Гоголя в системном плане на равных правах входит в контекст мировой драматургии шекспировского уровня. Но здесь мы должны сделать оговорку и сказать, что Гоголь не остановился на этом уровне. Он сделал шаг вперед в отношении открытости драматургического текста. Гоголь придумал такую художественную систему, в которой был силен и значим «подтекст», пролагающий путь к драматургии А. П. Чехова. В этом «подтексте» и прозвучала христианская «правда», вылившаяся из глубины души автора. Нужно заметить, что четкая ролевая организация шекспировского текста обогатилась под пером Гоголя религиозно-философской составляющей. Этот добавочный компонент к мастеровитости Шекспира высоко оценил Л. Н. Толстой, который считал произведения Шекспира лишенными духовного начала. Такое духовное начало в сочетании с шекспировским мастерством определило гоголевский идейно-художественный уро- вень, который можно обозначить соотнесенностью, или иначе – формулой: «Библия – Шекспир».
Под этим «брендом» органично выстраивается общая художественная система Гоголя, целостность которой поддерживается и таким важным компонентом, как драматургия, представляющая собой подсистему двух уровней: «Ревизор» и «Маленькие комедии». В целом же художественный мир Гоголя – это универсальная «книга бытия», в которой, как уже сказано вначале, драматургия в функциональном плане является ее неотъемлемой частью.
Список литературы Драматургия Н. В. Гоголя в контексте творческого процесса
- Ауэрбах Э. Мимесис. М., 1976.
- Вишневская И. Л. Гоголь и его комедии. М., 1976.
- Воропаев В. Николай Гоголь. Опыт духовной биографии. М., 2008.
- Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 6 т. М., 1950. Т. 6.
- Гоголь Н. В. Переписка: В 2 т. М., 1988. Т. 1. Гоголь Н. В. Авторская исповедь.
- Гоголь Н. В. Размышления о Божественной Литургии. М., 1990.
- Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 7.
- Крюков В. М. След птицы-тройки. М., 2008.
- Лосев А. Ф. Философия имени. М., 1990.
- Одиноков В. Г. Трагедия и комедия «потрясенного сознания»: В. Шекспир в художественной памяти Н. В. Гоголя//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 2: Филология. С. 146-155.
- Пушкин А. С. Борис Годунов/Коммент. Л. М. Лотман, С. А. Фомичева. СПб., 1996.
- Тыркова-Вильямс А. Жизнь Пушкина. М., 2010. Т. 2: 1824-1837.