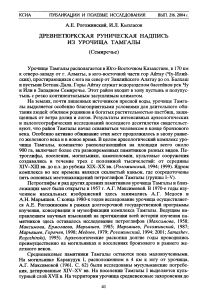Дреднетюркская руническая надпись из урочища Тамгалы (Семиречье)
Автор: А.Е. Рогожинский, И.Л. Кызласов
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Публикации и полевые исследования
Статья в выпуске: 216, 2004 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/143183898
IDR: 143183898
Текст статьи Дреднетюркская руническая надпись из урочища Тамгалы (Семиречье)
КСИА
ПУБЛИКАЦИИ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫП. 216. 2004 г.
А.Е. Рогожинский, И.Л. Кызласов
ДРЕВНЕТЮРКСКАЯ РУНИЧЕСКАЯ НАДПИСЬ ИЗ УРОЧИЩА ТАМГАЛЫ
(Семиречье)
Урочище Тамгалы располагается в Юго-Восточном Казахстане, в 170 км к северо-западу от г. Алматы, в юго-восточной части гор Айтау (Чу-Илий-ских), простирающихся с юга на север от Заилийского Алатау до оз. Балхаш и пустыни Бетпак-Дала. Горы Айтау служат водоразделом бассейнов рек Чу и Или в Западном Семиречье. Этот район входит в зону пустынь и полупустынь с резко континентальным засушливым климатом.
На землях, почти лишенных источников пресной воды, урочище Тамгалы выделяется особенно благоприятными условиями для длительного обитания людей: обилием родников и богатых растительностью пастбищ, защищенных от ветра долин и логов. Результаты интенсивных археологических и палеогеографических исследований последнего десятилетия свидетельствуют, что район Тамгалы начал осваиваться человеком в конце бронзового века. Особенно активно обживание этих мест продолжилось в эпоху раннего железного века и в новое время. В целом археологический комплекс урочища Тамгалы, компактно располагающийся на площади всего около 900 га, включает более ста разновременных памятников разных видов. Петроглифы, поселения, могильники, каменоломни, культовые сооружения создавались в течение трех с половиной тысячелетий: от середины XIV-ХШ вв. до н.э. до рубежа XIX-XX вв. (Рогожинский, 1994; 1999). Ядром комплекса во все времена являлся скалистый каньон, где сосредоточены пять основных местонахождений петроглифов Тамгалы (группы I-V).
Петроглифы и ряд других древних памятников урочища Тамгалы и близлежащих мест были открыты в 1957 г. А.Г. Максимовой. В 1970-е годы изучением наскальных изображений здесь занимались А.Г. Медоев и А.Н. Марьяшев. С конца 1980-х годов исследование урочища осуществляется А.Е. Рогожинским в рамках долгосрочной государственной программы изучения, консервации и музеефикации комплекса Тамгалы. Ведущим направлением научных изысканий на протяжении всей истории изучения памятников здесь оставалось исследование петроглифов (Максимова, 1958; Максимова, Ермолаева, Марьяшев, 1985; Марьяшев, Рогожинский, 1987; Марьяшев, Горячев, 1998; Медоев, 1979; Рогожинский, 1994; 2001; Samashev, Rogozhinskij, 1995). Археологические раскопки долгие годы проводились преимущественно на могильниках и поселениях бронзового и раннего железного веков.
Средневековые памятники Тамгалы остаются пока малоизученными. На могильнике Каракудук I, расположенном в 4 км к югу от урочища, А.Г. Максимовой (1961. С. 62) были исследованы мусульманские погребения, датированные XIV-XV вв. На поселении Тамгалы I выделяется культурный слой ХУП в. На территории урочища средневековые захоронения до
Рис. 1. Наскальная руническая надпись из урочища Тамгалы (Казахстан). Прорисовка А.Е. Рогожинского сих пор не выявлены. В то же время на скалах основных и периферийных местонахождений петроглифов Тамгалы известно большое количество изображений, датируемых раннесредневековой эпохой.
Особую ценность представляют редкие эпиграфические памятники в урочище Тамгалы - главным образом арабографичные казахские надписи, по-видимому, XIX в., а также тамги, как казахские, так и более древние, начиная с сарматского времени. Единственная надпись, выполненная вертикальным монгольским письмом, вероятно, молитвенная, относится к периоду джунгарского владычества. Она расположена на одной из скал центрального местонахождения петроглифов (группа IV, плоскость 112), где находится и хорошо известная композиция эпохи бронзы с изображениями солярных персонажей. Высокая вертикальная поверхность с позднесредневековым текстом располагается на южном склоне утеса, вблизи панно эпохи бронзы и обращена к долине. Благодаря этому надпись отчетливо различима на расстоянии 20-30 м. К сожалению, эпиграфический памятник испорчен современной кириллической выбивкой.
Первое сообщение о находке древнетюркской рунической надписи в урочище Тамгалы (Медоев, 1979. С. 29) не подтвердилось. Борозды, принятые за руническую надпись, были обнаружены в 1970-х годах и указаны Алану Георгиевичу его другом, геологом Б.Ж. Аубекеровым, ньше доктором геолого-минералогических наук. В 1992 г. А.Е. Рогожинский вместе с самим Б.Ж. Аубекеровым вновь осмотрел их. Это оказались выбитые в горизонтальный ряд 5-6 коротких линий (5-10 см в высоту, шириной до 1 см каждая). Все они покрыты очень темной патиной, в условиях урочища Тамгалы характерной для петроглифов эпохи бронзы и сакского времени. Возможно, н аших предшестве нник ов ввела в заблуждение сцена боя пешего и конного воинов, выбитая рядом, и действительно относящаяся к средневековью. Вместе с тем техника выбивки и цвет этих рисунков заметно отличаются от мнимой надписи.
Руническая надпись, публикуемая ныне, была открыта в 1991 г. А.Е. Ро-гожинским в ходе систематического обследования и документирования основных местонахождений петроглифов. Краткий камнеписный текст находится на западном склоне того же скального массива, где встречена монгольская строка, и занимает небольшую (50 х 70 см) плоскость (IV группа, плоскость 13), которая имеет запад-северо-западную экспозицию (угол простирания 282°, угол падения 68°) и расположена на второй снизу структурной террасе, на высоте более 5 метров над дном эрозионной долины-сая. Высота плоскости над поверхностью террасы 0,9-1,0 м.
Поверхность песчаника шероховатая, неравномерно покрытая пустын ным загаром коричневого и черного цвета. В левой нижней части плоскости выбиты шесть знаков горизонтальной надписи. Справа вверху находится изображение козла, обращенного вправо (рис. 1). Рисунок и рунические знаки выполнены в идентичной технике выбивки (глубиной до 0,5 мм) и имеют общий светло-коричневый цвет патины, что позволяет считать их одновременными. Рассмотреть надпись возможно, лишь находясь в непосредственной близости. Длина строки составляет 20,5 см, высота знаков (слева направо): 4; 4; 4; 2; 4,7; 4,2 см. Изображение козла имеет длину 17,5 см.
* * *
При чтении надписи руководствуемся прорисовкой и фотографиями, предоставленными первооткрывателем и вполне ясно воспроизводящими выбитые знаки. Лишь крайний правый из них на прорисовке передан не полностью: его правый нижний отводок сохранился плохо, но следы различимы на одном из снимков. Редкой особенностью тамгалинского камнеписного текста является направление письма. Вопреки руническим нормам, строка направлена не справа налево, а слева направо. На это обстоятельство указывает уже размещение букв на плоскости - правый знак прижат к естественной трещине породы, поскольку он был последним, и надписи немного не хватило места.
Транслитерация: r2t1i(i)6(ti)n2n2
Транскрипция: (е)г (a)ti on((i)n
Перевод: Его имя эра - Онюн.
В первых трех знаках надписи легко узнается распространенный в рунических памятниках речевой оборот. Благодаря этому надежно определяются как направление написания и прочтения, так и содержание надписи. Широкое применение словосочетания er atim или er at’i было вызвано бытовавшим у тюркских народов древним обычаем имянаречения. Становясь полноправным мужчиной (ег), юноша менял имя (at) прежнее, детское, на новое. Общетюркское слово ег в этом сочетании (как и в иных случаях) переводить, пожалуй, не стоит, поскольку обычно подбираемые для него слова других языков (“мужское имя”, “взрослое имя”), скорее указывают на половую и возрастную принадлежность, чем на социальное положение человека. В русском языке наиболее точное отражение имеет слово “муж” в том смысле, который хранят памятники древней письменности (скажем, “Русская правда”). Поэтому и перевод, принятый В.В. Радловым и С.Е. Маловым (“герой”, “геройское имя”) представляется ближе прочих.
Судя по начальному речевому обороту, последующими знаками строки записано мужское имя. Опил морфологически понимается как существительное результата действия, образованное от глагола бп- “выступать, обнаруживаться” или “достигать (возраста)” (Древнетюркский словарь, 1969. С. 385). Это значимое личное имя, применяя русские причастия, можно перевести как “Появившийся (на свет)” или “Достигший (зрелости)”. Отсутствие в надписи титула, присоединявшегося к имени аристократов, обличает имя свободного простолюдина.
Вопрос о назначении тамгалинской надписи неотделим от определения ее места среди других азиатских рунических памятников. Палеографические особенности текста (характерный облик рун t1 и п2) свидетельствуют, что он выполнен не орхонским алфавитом. Обе эти буквы енисейского облика, однако они применялись и в таласском письме. Стоит учесть, что для ньше известных памятников таласской письменности (число коих невелико) не свойствен такой вид руны t1, при котором верхний угол покрывает нижний (Кызласов, 1994. Табл. ХХШ, 68), как это наблюдается в нашем случае (см., впрочем, памятник Т1 в публикации: Бернштам, 1948. Рис. 2). В енисейских же памятниках такая буква хорошо известна и является, насколько можно судить, признаком текстов, близких к X в. Вместе с тем, определенное сходство тамгалинской надписи с таласскими заключено, пожалуй, в широком и короткоствольном написании руны б, четвертой в строке. Таким образом, палеографическое определение публикуемой надписи не может сегодня быть строгим: перед нами образец или енисейского, или Таласского письма. Первое кажется более вероятным.
Устанавливая принадлежность изучаемой надписи к той или иной рунической письменности, обратимся к формуле, представляющей мужское имя. Еще недавно она встречалась только на эпитафийных памятниках. И хотя надпись урочища Тамгалы наскальная, т.е. никоим образом не может быть надгробной, стоит сказать, что выражение er ati по грамматическому виду отличается от классических енисейских эпитафий, применявших его лишь в первом (er atim), а не в третьем лице единственного числа. Зато, судя по пуб ликация м, именно так личное имя указано в двух таласских эпитафиях Киргизии: Т4 и Т10 (Бат манов, 1971. С. 14, 23; Джумагулов, 1982. С. 15, 16. Табл. Ш; 1987. С. 23, 24).
Последнюю речевую особенность нельзя, однако, считать характерной для таласских надписей. Как в эпитафиях (Т1, Т2, Т14), так и в наиболее значимых для нашего сравнения наскальных начертаниях, выполненных Таласским руническим письмом, применяется формула er atim (Батманов, 1971. С. 9-12; Джумагулов, 1982. С. И, 20. Табл. I, V; Табалдиев, Солтобаев, 2001. Рис. 1, 3-5, 7; Кляшторный, 2001; 2001а). В таком виде, как в Тамгалы, разбираемое выражение пока встречено только в енисейских надписях и только на Горном Алтае.
Из трех известных алтайских надписей две по построению составляют ближайшие аналогии тамгалинской строке, но именно в силу этого не могут помочь в истолковании изучаемого памятника. В надписи на стеле Талду-Айры (Наделяев, 1981. С. 66-68; Кызласов, 1997. С. 57-61. Рис. 7, 8), которую с некоторыми сомнениями допустимо считать эпитафией, имя разбирается неуверенно - (е)г (a)ti (б)Т|й (a)j “Его имя эра - Онгю Ай”, наскальная же строка Ялбак-Таш ХШ (Кызласов, 2001. С. 246. Рис. 2; 2003. С. 45-47) читается впол- не определенно: (е)г (a)t£ (е)1 j(e)g(a)n {а} “Его имя эра - Греховный Йеген”. Третья горноалтайская надпись, Адыр-Кая I, вырезана на скале (Наделяев, 1981. С. 68, 69; Кызласов, 2001. С. 248. Рис. 7). Именно она проясняет назначение подобных записей на утесах, ибо гласит: (е)г (a)t^ j(e)v(i)g с(е)г “Его имя эра - Йевиг. Избавь (-освободи) (его) (от греха)!” Не может быть сомнения, что наскальные надписи изучаемого типа - краткие моления, вознесенные одним верующим во благо другого, поименованного в них человека.
Алтайские наскальные памятники показывают, что надпись урочища Тамгалы хотя и не содержит прямых начертательных и орфографических признаков алтайского варианта енисейского письма, не только входит в одну палеографическую группу с ними (Кызласов, 1994. Табл. XXIV, 29; 1997. С. 60. Рис. 8), но также является краткой молитвенной отметкой, следующей определенной, локально ограниченной речевой формуле. В связи с этим, производя разбор лаконичной камнеписной строки, можно дополнить ее содержание опущенным на письме глаголом: (е)г (a)ti 6n(ii)n (бег) “Его имя эра - Онюн. (Избавь) (его от греха)!”
Придя к этому заключению, логично предположить, что автор тамга-линской надписи принадлежал к той же духовной среде, что и создатели названных горноалтайских граффити. Религиозная принадлежность алтайских надписей ныне установлена надежно - это культовые отметки сибирских манихеев (Кызласов, 2001). Следовательно, наскальная надпись урочища Тамгалы может расцениваться нами как косвенное свидетельство связи местного общества с письменной культурой Алтая и распространения на Семиречье свойственного Южной Сибири того времени северного манихейства. Оба явления, по-видимому, связаны с карлуками.
Манихейские установления проясняют интересующую нас в этом случае грамматическую форму оборота, представлявшего мужское имя в наскальных надписях: er ati “его имя эра”. Анализ енисейских начертаний Южной Сибири уже выявил существование в местном обществе фигуры манихейского пастыря, наставлявшего верующих (Кызласов, 2001. С. 248, 249, 255). Члены религиозной общины регулярно исповедовались ему. Сам же священник, “избранный” по манихейской терминологии, должен был молиться за мирян. Мы можем заключить, что нетитулованные имена Онгю Ай (Талду-Айры), Эль Йеген (Ялбак-Таш ХШ), Йевиг (Адыр-кая I) и Онюн (Тамгалы), принадлежали мирянам-манихеям, за которых их пастыри возносили моления к божеству: “Его имя эра - Имярек. (Освободи его, Господи, от прегрешений его)!”
Таким образом, учитывая всю известную совокупность манихейских молитвенных надписей, нанесенных на скалы енисейским руническим письмом, даже по единственной публикуемой краткой камнеписной строке можно, пожалуй, заключить, что в урочище Тамгалы существовала тюркоязычная манихейская община. Возглавлявший ее пастырь, судя по всему, вышел из алтайской епархии.
Вопрос о левостороннем направлении написания тамгалинского рунического текста требует широких историко-культурных поисков и должен быть рассмотрен особо. Наиболее вероятно, что строка высечена в IX-X вв., хотя по палеографическим признакам предположительно возможно сузить датировку до одного X в.