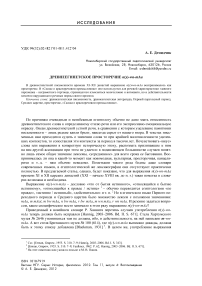Древнеегипетское просторечие n (y)-wn-mAa
Автор: Демидчик Аркадий Евгеньевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В древнеегипетской письменности времени XI-XII династий выражение n(y)-wn-mAa воспринималось как просторечие. В «Сказке о красноречивом промысловике» оно используется для речевой характеристики главного персонажа - неграмотного торговца, стремящегося изъясняться многословно и витиевато, но в действительности комично нарушающего речевые нормы своего времени.
Древнеегипетская письменность, древнеегипетская литература, первый переходный период, среднее царство, просторечие, "сказка о красноречивом промысловике"
Короткий адрес: https://sciup.org/14737814
IDR: 14737814 | УДК: 94(32).02+821'01+811.412'04
Текст научной статьи Древнеегипетское просторечие n (y)-wn-mAa
По причинам очевидным и неизбежным египтологу обычно не дано знать отнесенность древнеегипетского слова к определенному стилю речи или его экспрессивно-эмоциональную окраску. Океан древнеегипетской устной речи, в сравнении с которым уцелевшие памятники письменности – лишь редкие капли брызг, навсегда скрыт от нашего взора. В текстах письменных нам приходится судить о значении слова то при крайней малочисленности уцелевших контекстов, то сопоставляя эти контексты за период в тысячи лет. Почувствовать «вкус» слова или выражения в конкретную историческую эпоху, распознать прилипавшие к ним на век-другой ассоциации при этом не удается: в подавляющем большинстве случаев понятно лишь самое общее значение лексемы, «усредненное» для всего срока ее бытования. Воспринималась ли она в какой-то момент как новомодная, вульгарная, просторечная, канцеляризм и т. д. – нам обычно неведомо. Пометками такого рода бедны даже словари современных языков, в египтологической же лексикографии они отсутствуют практически полностью. В предлагаемой статье, однако, будет показано, что для выражения n ( y ) -wn-mAa времени XI и XII царских династий (XXI – начало XVIII вв. до н. э.) такая пометка в словарях возможна и необходима.
Выражение n ( y ) -wn-mAa – дословно «что от бытия истинного», «относящийся к бытию истинному», «относящийся к правде / истине» 1 – обычно переводится египтологами «по правде», «истинно / истинный», «действительно» и т. п. 2 Но в египетском языке Первого переходного периода и Среднего царства было множество лексем с похожими значениями: mAa , m mAat , m bw mAa , n bw mAa , r bw mAa , m wn mAa , r wn mAa . И резонно задаться вопросом, какое специфическое место занимало в этом ряду выражение n ( y ) -wn-mAa ?
Приведенный в новейшем словаре Р. Ханнига перечень случаев употребления n(y)-wn-mAa теперь должен быть исправлен [Hannig, 2003–2006. Bd. II. S. 671]. Стела Хартумского музея № 2646 упоминаться там не должна, ибо, в действительности, на ней написано m-wn-mAa. А вот стела Британского музея № 100 (614), где n(y)-wn-mAa выписано дважды, должна быть к этому списку добавлена [Blackman, 1931] 3. В целом же, употребление выражения на протяжении интересующего нас срока удобно рассмотреть в рамках двух периодов: до и после царствования второго царя XII династии Сенусерта I. Как известно, именно при этом государе вполне сложился и утвердился нормативный письменный язык времени расцвета древнеегипетской литературы.
Применительно к первому из названных хронологических отрезков нужно отметить, что выражение n ( y ) -wn-mAa не употреблялось чиновниками Старого царства. Впервые оно фиксируется лишь в последовавшие за этим смутные времена в письменности провинциального Юга – на стеле начальника казначеев Чечи при царе XI династии Нехтнебтепнефере Инийо-тефе [Blackman, 1931]. Примечательно и то, что из семи надписей с n ( y ) -wn-mAa до средины царствования Сенусерта I только две выполнены в «цивилизованном» пространстве Нильской долины. Большинство же – пять – оставлены суровыми тружениками дальних каменоломен в пустыне: граффити № 20, 23, 24, 26 в Хатнубе и № 53 в Вади Хаммамат 4. Не является ли это признаком того, что египтянам, хорошо сведущим в письменности, выражение n ( y ) -wn-mAa казалось новшеством сомнительным; скажем, просторечием – выражением из «нелитературной» разговорной речи, свойственным малообразованным носителям языка и отклоняющимся от языковых норм письменности?
Работники каменоломен, редко сведущие в «литературной норме» 5, эту просторечность n ( y ) -wn-mAa могли не осознавать. В специальной статье можно было бы показать, что писарская квалификация лиц, оставивших интересующие нас граффити, была весьма низкой. Пока же отметим, что при всей распространенности в Египте названий должностей с компонентом «писец», так назвал себя лишь создатель хатнубских граффити № 20, 23 и 24: «писец arryt , жрец (богини) Сехмет, сын Нехта Аханехт» [Anthes, 1928. S. 47, 57–59, Tf. 20, 26]. И даже этот титул не свидетельствует об основательной писцовой подготовке. За первые полторы тысячи лет египетской письменности обозначение «писец arryt » встречается только здесь, в Хатнубе у данного Аханехта 6. Вполне вероятно, что столь необычный титул был присвоен ему лишь на время экспедиций в каменоломню, а то и просто выдуман им для пущей важности. Постоянная же должность Аханехта – «жрец Сехмет» – требовала умений в части ритуала и магических приемов врачевания, но вовсе не «литературной» подготовки.
Не противоречит догадке о n ( y ) -wn-mAa как о просторечии и присутствие его на двух кладбищенских памятниках. Памятник Чечи – одна из первых стел, изготовленных в окраинной Фиванской монархии с мастерством, равным лучшим образцам Старого царства. Но с предложенной М. Лихтхайм оценкой самовосхвалений Чечи как «выдающегося образца нового литературного стиля» времени XI династии согласиться трудно [Lichtheim, 1988. P. 48]. Слишком многое в этом тексте противоречит «хорошему вкусу» кладбищенских жизнеописаний времени Старого царства или блестящей XII династии:
-
• вопреки обычаю, надпись начинается не жертвенной формулой с примыкающими к ней титулами владельца стелы, а длинным и напыщенным самовосхвалением (строки 1–3);
-
• навязчивые повторы одного и того же слова: «сердце ( ib )» – четыре раза в одной только первой строке 7;
-
• повторы одних и тех же хвалебных эпитетов и оборотов речи: «чиновник премудрый ( sr aA n ib=f )» 8 в строках 1 и 7; «находящийся в сердце своего владыки ( imy-ib nd=f )» в строке 2 и «находящийся в сердце у своего владыки ( imy-ib n ( y ) nb=f )» в строке 7; «из-за того, сколь велика моя мудрость ( n aAt nt rx-xt ( =i ))» в строках 7 и 11;
-
• перегруженность заверениями в достоверности упоминаемых достоинств: «я, действительно, истинно находящийся в сердце у своего владыки ( ink wnnt imy-ib n ( y ) nb=f mAa )» (строка 7);
-
• просторечное употребление Ds ( =i ) «самого меня» вместо литературно правильного «мой собственный ( n ( y ) -Dt=i )» после названия объекта собственности в строках 11–12: «я снабжал меня из имущества меня самого» 9.
С учетом этих и других стилистических огрехов, присутствие в надписи Чечи интересующего нас просторечия не выглядит невозможным.
В начале XII династии n ( y ) -wn-mAa было выписано в теперь разрушенной гробничной надписи асьютского правителя Джефаихапи, предшественника знаменитого Джефаихапи I, служившего Сенусерту I [Griffith, 1889. Pl. 10. l.3] 10. Выражение n ( y ) -wn-mAa при этом оказалось включено в главный титул правителя «начальник жрецов n ( y ) -wn-mAa (бога) Упууата, владыки Асьюта» 11. О том, что позднейшим посетителям такое написание титула казалось неправильным, можно судить по надписям Джефаихапи I. Многократно повторяя идентичную титулатуру, он всякий раз заменял n ( y ) -wn-mAa на принятое в египетской письменности mAa «истинный», «настоящий» [Ibid. Pl. IV, l. 218, l. 223, pl. VI, 261, pl. IX, l. 330]. Не означает ли это, что и Джефаихапи I выражение n ( y ) -wn-mAa показалось слишком уж просторечным?
Понимание n ( y ) -wn-mAa как просторечия подтверждается и всей историей его употребления во второй выделенный нами период. Показательно, что с момента утверждения в царствование Сенусерта I нормативного письменного языка и до конца XII династии выражение n ( y ) -wn mAa было практически изгнано из египетской письменности. При всем обилии и многообразии текстов того времени интересующее нас выражение отсутствует в литературных сочинениях, государственном документообороте, царских и кладбищенских надписях; его не встретишь даже в надписях каменоломен. Лишь когда в средине XIII династии нормативный письменный язык стал вновь размываться разговорным, n ( y ) -wn-mAa проскользнуло в кладбищенскую титулатуру жены третьеразрядного чиновника, «начальника пашен Сенби» – «жрицы Хатхор, хвалимой ею nt-wn-mAa , его жены Нубнехт» [Lange, Schäfer, 1908. S. 409, Nr. 2070]. Но других подобных примеров не известно вплоть до Нового царства.
Единственное исключение из сказанного про письменный язык XII династии – «Сказка о красноречивом промысловике». Выражение n ( y ) -wn-mAa повторяется в ней целых пять раз: в четвертой, седьмой, восьмой и девятой жалобах промысловика Хунанупа и при оценке его речи царевым великим домоправителем Ренси12. Но эта особенность «Сказки» имеет простое объяснение. Как уже указывалось, жалобы Хунанупа – пародия на специфическое красноречие египетских торговцев времени Среднего царства [Демидчик, 2009]. При всей цветистости и напыщенности их «рыночных» монологов, образованным египтянам таковые часто должны были казаться излишне просторечными и вульгарно-грубоватыми. А герой «Сказки» еще и представлен выходцем из глухого захолустья – из далекого западного оазиса «Соляное поле».
Прием речевой характеристики персонажей использовался древнеегипетскими литераторами 13 , и трудно не предположить, что навязчиво повторяемое в речах Хунанупа n(y)-wn-mAa служит в «Сказке» именно этой цели – как одна из ярчайших примет речи простонародной, малограмотной, «провинциальной» 14. В качестве примечательнейшей черты речи промысловиков-торговцев специально выделяет выражение n(y)-wn-mAa великий домоправитель Ренси. Докладывая о Хунанупе царю, он говорит: «Мой владыка, встретился мне один из этих промысловиков (с) красивой речью n(y)-wn-mAa» [Parkinson, 1991. P. 19, B1 106–107]. Присоединение n(y)-wn-mAa к возвышенному «(с) красивой речью» – не что иное, как иронический контраст для достижения комического эффекта. В современном русском языке его эквивалентом могло бы стать «(с) красивой речью» + приблатненное «в натуре» или же «(с) красивой речью» + вульгарное «по реальному / в реале». Немного ерничая, Ренси намекает царю, что при всей склонности промысловиков-торговцев к произнесению долгих замысловатых речей, в действительности их красноречие до смешного противоположно нормам «хорошего вкуса» – подобно тому как просторечие n(y)-wn-mAa есть лишь корявая замена правильного mAa.
В дальнейшем, с возвышением новых социальных групп, с изменением нравов и вкусов выражение n ( y ) -wn-mAa перестанет считаться просторечным. С Нового царства и позже оно будет восприниматься уже как полноправный элемент нормативного письменного языка 15. Но применительно ко времени XI и XII династий словарная пометка «просторечие» возле выражения n ( y ) -wn-mAa кажется необходимой.
ANCIENT EGYPTIAN n ( y ) -wn-mAa –
AN EXPRESSION OF SUBSTANDARD LANGUAGE
In the ancient Egyptian writing of dynasties XI–XII the expression n ( y ) -wn-mAa was mostly perceived as belonging to substandard language. In the «Tale of Eloquent Peasant» it is deliberately inserted in the protagonist’s speech to implicitly characterize him as an illiterate small trader striving to speak glibly and flowery, but in fact ignorant of the norms of true eloquence.