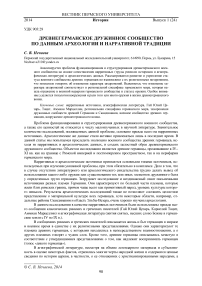Древнегерманское дружинное сообщество по данным археологии и нарративной традиции
Автор: Нечаева С.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Археология и этнология
Статья в выпуске: 1 (24), 2014 года.
Бесплатный доступ
Анализируется проблема функционирования и структурирования древнегерманского военного сообщества на основе сопоставления нарративных (труды римских историков и агиографическая литература) и археологических данных. Рассматривается развитие и укрепление статуса военного сообщества древних германцев во взаимосвязи с их религиозными воззрениями, что позволило говорить об изменении характера захоронений. Выясняется, что изменение характера захоронений соответствует и региональной специфике германского мира, которая нашла отражение в военной иерархии германского сообщества и статусе оружия. Особое внимание уделяется типологии вооружения и роли того или иного оружия в жизни древнегерманского воина.
Нарративные источники, гай юлий цезарь, военное сообщество древних германцев, агиографическая литература, тацит, аммиан марцеллин, региональная специфика германского мира, захоронения дружинных сообществ древней германии и скандинавии, вооружение древнегерманского воина
Короткий адрес: https://sciup.org/147203534
IDR: 147203534 | УДК: 903:29
Текст научной статьи Древнегерманское дружинное сообщество по данным археологии и нарративной традиции
Проблема функционирования и структурирования древнегерманского военного сообщества , а также его ценностей не относится к числу малоизученных в научной литературе . Значительное количество исследований , посвященных данной проблеме , основано прежде всего на нарративных источниках . Археологические же данные стали активно привлекаться лишь в последнее время . В данной статье мы попытаемся проследить эволюцию военного сообщества древних германцев , ис ходя из нарративных и археологических данных , и создать целостный образ древнегерманского дружинного сообщества . Объектом исследования являются древние германцы , проживавшие в IV– XI вв . как на границе с Римской империей и постимперским пространством , так и на периферии германского мира .
Нарративные и археологические источники признаются основными типами источников , ис пользуемых при изучении указанной проблемы , при этом обязательно в комплексе . Дело в том , что в случае отсутствия литературного или археологического свидетельства трудно делать вывод об использовании какого - либо оружия или существования тех или иных элементов дружинного быта у определенных групп германцев . Затрудняет исследование и неодинаковый охват письменными источниками разных племен Германии . Они характеризуют по большей части племена , которые жили близ римских границ , причем чаще всего как примитивный народ , уровень культуры которо го невысок . Результаты археологических исследований также не позволяют составить целостное представление о материальной культуре всех германцев , хотя некоторые области , например , от дельные районы Скандинавии и область Эльбы - Везера , очень хорошо изучены археологами .
В данном исследовании в качестве нарративных источников были использованы прежде все го сообщения классических римских и греческих писателей ( Гай Юлий Цезарь , Корнелий Тацит , Аммиан Марцеллин ) и агиографическая литература ( жития святых , несших слово Божие в герман ские земли с IV по IX в .).
В сообщениях римских и греческих писателей описывается жизнь и быт германцев в мирное и военное время в единстве с их религиозными представлениями . Однако они характеризуют те племена древних германцев , с которыми находились в непосредственном взаимоотношении , а о других племенах говорят с чужих слов . Кроме того , древние германцы описывались зачастую в соответствии с утвердившимися представлениями о том , как надлежит воспринимать германцев ( топос « дикого германца »).
В агиографической литературе , несмотря на обилие легендарного материала и субъектив ность в оценке некоторых фактов , отразились многие черты народной жизни и содержатся ценные сведения по истории церкви , в частности , о ее отношениях с христианизированными народами , а
также о быте , нравах , ценностях и верованиях этих народов . Но при работе с житиями возникает ряд трудностей , с которыми сталкивается любой исследователь данной темы . Во - первых , многие из них дошли до нас не в первой редакции . Например , в житии св . Людгера указывается , что оно было написано Альтфридом , одним из последователей святого , через 60 лет после его смерти на основе собранных монахом Вердена материалов , 20 годами позже оно было переписано [St. Ludger…, 1954, р . 660]. Во - вторых , поскольку процесс христианизации у германских племен протекал по - разному , в житиях отражены временной фактор и степень влияния римско - христианской традиции . В - третьих , церковные сановники и священнослужители , являясь представителями знатнейших фа милий , которые выдвинулись во время войны и охоты , выступали посредниками между королем и его народом [ Russell , 1994, р . 32]. Поэтому социальное происхождение и образ жизни церковных сановников и священнослужителей во многом способствовали уподоблению их вкусов и ментали тета нравам дружинного сообщества , что нашло отражение в житиях [ Кардини , 1986, с . 145]. Воз можно , именно это может служить причиной противоречивости оценки многих событий , описы ваемые в житиях .
Археологические данные , связанные со значительным ареалом расселения германцев и дос таточно широкими временными рамками , представлены материалами погребений древних герман цев .
Сообщения Юлия Цезаря содержали хронологически наиболее ранний экскурс в этнографию германского народа , хотя и преследовали двоякую цель . С одной стороны , Цезарь , как политиче ский деятель и полководец , был весьма далек от намерения собрать объективную информацию о германцах с чисто познавательной целью – он заботился и об оправдании и превознесении собст венных действий в Галлии . Поэтому его « германский экскурс » касается лишь прирейнских племен или германцев , переселившихся в Галлию , что не помешало Цезарю распространить сделанные им локальные наблюдения на германцев в целом [ Гуревич , 1999, с . 5]. С другой стороны , он рассмат ривает германцев как противника в случае завоевания Германии римлянами , которые выступят с цивилизаторской миссией , принеся германцам мир и порядок . Отсюда внимание уделяется прежде всего германскому войску и быту [ Лосев , 2005, с . 175]. Цезарь « деформировал излагаемые им фак ты посредством особой интерпретации или почти неуловимым хронологическим смещением собы тий , иногда обходя их молчанием и концентрируя внимание читателя на другом » [ Дуров , 1993, с . 48]. Таким образом , его повествование – это авторская интерпретация фактов , которая дана под определенным углом зрения и тем не менее позволяет охарактеризовать первичный эволюционный тип общественной организации древних германцев . Его можно определить как « преобладание ре зидентных групп », при котором « надобщинные структуры носили вторичный , обусловленный внешней агрессией , характер , а резидентные группы представлены областями и округами , во главе которых стояли principes» [ Санников , 2005, с . 35]. Общественный уклад находил отражение в скла дывании пантеона богов , возглавляемого Тором – богом войны и правосудия .
В этот период основной формой захоронения была кремация . Об этом свидетельствуют сот ни тысяч зарегистрированных захоронений , датированных между 100 г . до н . э . и 300 г . н . э . Крема ция стала нормой в Северной Европе в среднем бронзовом веке и доминировала в предримском железном веке [ Todd , 1977, р . 39]. Инвентарь захоронений довольно беден ( вещи сопровождают лишь меньшую часть погребений ), он состоял в основном из украшений , которые носил умерший . Но в два последних века до новой эры в погребениях снова появилось оружие , а на шведских ост ровах в них стали класть серпы [ Лебедев , 1974, с . 157]. Судя по всему , оба вида погребального ин вентаря имели символическое значение . Начиная с этого времени и вплоть до окончания языческих времен существовал обычай ломать мечи , которые клались в погребение . Незначительное количе ство сопроводительного инвентаря , а также единообразие материала в отдельном могильнике по зволяют говорить об имущественной однородности германских и скандинавских могильников в это время [ Дэвидсон , 2005, с . 143].
Постепенное укрепление статуса военно-дружинной знати привело к тому, что фигура вождя приобретает все большее общественное значение. Вокруг него возникает окружение из дружинников [Санников, 2005, с. 36]. Это нашло свое отражение в трудах Тацита. Они были направлены против домицианской пропаганды, в частности, заверения в том, что Риму ничего не грозит со стороны германцев. Исходя из того, что германская опасность существует, Тацит дает картину жизни народа, являющегося источником этой опасности [Тронский, 1946, с. 468]. Он рассматривает жизнь древних германцев в ракурсе нравственности, потому что именно virtus (доблесть) германцев представляет, на его взгляд, главную опасность для Рима [Дуров, 1993, с. 99]. Тацит описывает порядки германцев в категориях римского общества, но, «будучи оппозиционно настроенным по отношению к имперской власти в Риме, он стремится противопоставить распущенности римских нравов суровость и простоту нравов германского общества, в известной степени идеализируя их и скрыто восхищаясь ими [Лосев, 2005, с. 184].
Следует отметить , что Тацит , хотя и являлся наместником провинции Белгики , в свободной Германии не был . Он использовал многочисленные источники , письменные и устные , которые по зволили ему осветить весь круг вопросов , поднимавшихся при описании народов , остановившись на том , что находилось в контрасте с римской жизнью [ Гуревич , 1999, с . 6]. Тацит отмечает , что германское общество основывалось на кровнородственных отношениях . Мужчины « свободного рождения » формировали племенное собрание , которое решало вопросы войны и мира , разбирало уголовные дела . Германская армия состояла из princeps ( вожди ), comites ( свита ), pedites ( пехотин цы ) [ Тацит , VII]. Такую же трехуровневую структуру германской армии упоминает в своих трудах и Аммиан Марцеллин [ Марцеллин , XXVII, 1.5].
В агиографической литературе встречается схожее описание древнегерманского общества . В житие св . Лебина , на которого была возложена христианизация Фризии и Саксонии (VIII–IX вв .), говорится о том , что в старые времена у саксов не было короля , но были старшие в каждой деревне . Их обычаем было собирать общее собрание раз в год в центре Саксонии , у реки Изер , в месте , на зываемом Marklo. Там также присутствовали 12 знатных от каждой деревни как представители свободных людей . Они утверждали законы , принимали решения в спорных случаях и одобряли план на следующий год , в соответствии с которым они могли жить в мире или ведя военные дейст вия .
Присутствовавшие на общем собрании сначала возносили молитвы богам , согласно обычаю прося у них защиты для своей страны и поддержки руководства в принятии решений , полезных всем , и затем благодарили богов . После этого они образовывали круг и начинали дискуссии . Это собрание принимало посланников , которых встречали всегда с миром и которым нельзя было при чинить вред [The life of Lebuin, 1954, р . 231]. На этом собрании находилась группа молодых воинов , которая располагалась на небольшом отдалении от остальных участников [ Ibid., р . 232 ]. Св . Колум - бан , побывавший в IX в . в скандинавских землях с христианской миссией , также обращает внима ние на эту особенность . Он описывает эту группу как некое военное сообщество , построенное на узах братства : « свита равных друзей » [Life of St. Columban, II, XXIV]. Однако каких - либо подроб ных сведений о самой структуре военного сообщества в житиях не содержится .
Археологический материал , найденный на территории Скандинавии и Британии , позволяет в большей степени дифференцировать структуру военного сообщества древних германцев . В захоро нениях встречаются три качественно различные комбинации вооружения , на основе чего можно выделить три уровня в иерархии военного сообщества . Первый уровень – это « командующие », « вожди », которые имели мечи , щиты , пояса и крепления из позолоченного серебра . Второй уровень состоял из « офицеров » с мечами , щитами , поясами и бронзовыми креплениями . Третий уровень – пехота – имел комбинацию из двух копий , щита и креплений из железа . Встречаются также комби нации со стрелами и конской упряжью .
Первоначально в захоронениях были распространены однолезвийные мечи , которые впо следствии почти вышли из обихода [ Carnap-Bornheim , 1992, р . 4]. Начиная со II в . на смену им при ходят обоюдоострые длинные мечи с инкрустациями , позволяющими достаточно точно определить социальную принадлежность их владельцев [ Carnap-Bornheim , 1992, р . 5]. Захоронения , которые находились на территориях , граничащих с Римской империей , содержат мечи римского происхож дения . Но чем дальше от границ с Римской империей , тем число мечей римского происхождения заметно сокращается [ Brather , 2005, р . 6].
Каждому из трех уровней военного сообщества соответствовал свой тип щита . Для первого уровня характерны щиты , чьи ручки и другие элементы сделаны из серебра и украшены золотой фольгой . При этом ручки некоторых щитов были снабжены рунами . Щиты второго уровня имели бронзовые ручки , иногда покрытые золотой фольгой . Самые простые – железные – щиты принад лежали третьему уровню [ Ilkjaer , 2001, р . 5]. Однако щиты всех трех уровней имели круглую фор му .
Пояса и ножны отличались друг от друга по материалу , структуре и происхождению [ Carnap-Bornheim , 1992, р . 2]. Первому уровню полагались пояса и ножны германского происхождения из серебра и других драгоценных металлов . Пояса и ножны римского происхождения с пластиной , двойной кнопкой , обручем принадлежали низшему уровню . Причем римский импорт не обязатель но являлся эквивалентом высокого статуса [ Carnap-Bornheim , 1992, р . 3]. Германские пояса и нож ны были дороже , хотя порой и были скопированы с римского оригинала и приспособлены « под германское артистическое восприятие » [ Matesi , 2010, р . 3]. Длина ленты , предназначавшейся для знаков отличия воина , определялась индивидуально . В численном отношении три уровня военного сообщества представлены следующим образом : первый – 2-3 % от общего числа захоронений , вто рой – 14-15 %, третий – 80 % [ Grane , 2010, р . 18].
Одновременно происходит сакрализация власти конунгов , о чем свидетельствуют и труды Аммиана Марцеллина . Он обращает внимание на события на периферии империи [ Марцеллин , XXXI]. Смещение акцента на периферийные события было связано с падением нравов в Риме . В то же время главной темой трудов Марцеллина остается « историческая миссия Рима – приобщение диких варварских племен к идеалам свободы и порядка путем их завоевания » [ Лукомский , 1996, с . 18]. Варварский быт служил « своего рода экраном , на который он проецировал собственные идеи и утопии , и все заслуживающие доверия фактические сведения в его сочинениях надлежит оценивать именно в этом идеологическом контексте » [ Гуревич , 1999, с . 6].
C акрализация власти конунгов была связанна с традицией возводить роды германских и скандинавских королей к асам и оформлением культа Одина [ Fitch , 2003, р . 41]. Сакрализация вла сти конунгов нашла отражение и в появлении специфических погребальных сооружений – курга нов [ Санников , 2005, с . 39]. Согласно данным археологии в течение первых двух столетий нашей эры наряду с кремацией стало осуществляться погребение ( в областях Дании , Поморья , в низовьях Вислы , на севере Ютландии и Южной Швеции ). В центральных и восточных частях Германии по гребение становится формой похорон для членов общества , занимавших в нем высокое положение . С третьего столетия нашей эры погребение стало относительно обычным явлением в южных облас тях Германии и пограничных с Римом районах [ Todd , 1977, р . 39]. Свидетельства этого мы находим в житии святого Мартина , где описывается погребальный обряд , который он наблюдал во время своего путешествия по землям южных германцев [Life of St. Martin, XII, р . 43].
В житиях святых упоминается много оружия : ножи , топоры , копья , мечи , стрелы , но не оп ределяются их место и роль в жизни древнегерманского воина , за исключением топора и меча . При этом топор как вид оружия доминирует над мечом по распространению , доступности и значимости . Меч выступает прежде всего в качестве маркера принадлежности к высшему уровню в иерархии военного сообщества . В текстах агиографий можно проследить эволюцию роли меча . Святой Мар тин , несший слово Божье в землях южных германцев , указывает на то , что меч – это основной эле мент вооружения воина [Life of St. Martin, II, р . 39]. Святой Виллиброд , описывая нравы данов и фризов , отмечал , что меч являлся подтверждением социального статуса своего владельца [The life of St. Willibrord I, 14, р . 13]. Святой Лебин , отправившийся по благословению Святого Бонифация в Саксонию , обращает внимание на то , что право ношения оружия определяло политический статус [The life of Lebuin, р . 89]. В житии святого Колумбана , проповедавшего в землях Скандинавии , из всех видов оружия чаще всего упоминаются топор и меч , которые не только подтверждали соци альный статус своего хозяина , но и носили сакральный характер [Life of St. Columban. II, XXI, XXXVIII, р . 195].
Согласно данным археологии можно выделить несколько видов вооружения . В первую оче редь это национальное оружие , к которому относились щит , копье , топор и односторонний меч – « сакс ».
Щит – обычно широкий и овальный или прямоугольный – был снабжен железным умбоном и имел железную оковку [ Тодд , 2005, с . 146; Симпсон , 2005, с . 288]. Щиты или раскрашивали ка ким - то одним цветом , или делили на секторы , окрашивая их в контрастные цвета и получая про стые геометрические узоры , что было характерно для простых щитов . Существовали и роскошные щиты , которые украшали пиршественные залы королей и князей [ Симпсон , 2005, с . 285]. Статусная роль щита – подчеркивание высокого социального положения воина – отражена в « Салической правде » [ Салическая правда , XXX, 6].
Копье было оружием рядовых воинов. Засвидетельствовано несколько типов копья. У фран- ков и аламаннов это было копье с зазубренным наконечником (аngо), которое, очевидно, отдаленно напоминало римское копье-пилум (рilum), метательное оружие легионеров [Тодд, 2005, с. 137]. У англосаксов лучше остальных известны копья с длинным листовидным или ромбовидным наконечником, длина которого обычно составляла 30-45 см [Там же, с. 153]. Можно выделить два основных типа копья и у лангобардов – одно с широким наконечником, для удара, и другое с узким острием, которое хорошо подходило для метания. Примером более редкого, длинного типа копья, также предназначенного для метания, служит образец из Перхтольсдорфа близ Вены, который напоминает франкский аngо [Там же, с. 161]. Северные германцы использовали длинное копье с узким и коротким, но острым навершием [Симпсон, 2005, с. 286]. Такое многообразие этого вида оружия, возможно, было связано прежде всего с существенными различиями в тактике германских племен.
Топор в большинстве своем представлен francisca. Это метательное оружие с одним лезвием , утяжеленное топорище которого было изогнуто с внешней стороны и имело глубокую выемку с внутренней стороны [ Тодд , 2005, с . 146]. Боевые топоры северных германцев отличались от топо ров остальных германских племен . Существовало три основных типа боевых топоров [ Симпсон , 2005, с . 293]. Первый тип – это « ручной » топор , в котором оставалось еще много от рабочего инст румента : топор был достаточно легок , насажен на длинное , обитое железом топорище , напротив лезвия находился вполне пригодный для использования молоток . Такой топор продолжал оставать ся оружием крестьянина , и люди могли постоянно носить его в повседневной жизни , пользуясь им как инструментом или тростью и применяя как оружие в случае внезапного нападения . Второй тип – это « топор с бородкой ». Свое название он получил от характерного квадратного выступа на ниж нем крае лезвия . Его особенно часто применяли в морских сражениях , поскольку из - за его формы такой топор прекрасно годился для захвата и абордажа . Третий , наиболее известный , тип – знаме нитый « широкий », или « плотницкий », топор : тяжелая секира с длинной рукояткой . Им нужно было рубить двумя руками . Длина лезвия секиры доходила до 30 см , его украшали инкрустацией из се ребра , золота или черни . Таким образом , топор занял особое место в экипировке прежде всего се верных германцев , заменив собой копье , что было связано с особенностями местности и быта .
Односторонний меч « сакс » встречается практически у всех древних германцев . Он мог быть в виде длинного ножа или однолезвийного меча , длина которого составляла примерно 45 или 60–90 см [ Тодд , 2005, с . 158]. Этот факт позволяет говорить о единстве германского мира .
К отдельной группе можно отнести оружие , являющееся частью кельтского и римского им порта , – меч . До конца позднего римского периода меч играл относительно небольшую роль в гер манском вооружении , и прошли еще целые века , прежде чем германцы стали использовать мечи как основной вид оружия . Начиная с III и IV вв . в Скандинавии и северной Германии появляются великолепные мечи : на смену односторонним мечам приходят обоюдоострые . Многие мечи из Скандинавии и областей , прилегавших к римским границам по Рейну и Дунаю , достаточно близки к римскому типу короткого меча – « гладиусу » (gladius), и можно предположить , что они действи тельно восходят к этому оружию легионеров [ Тодд , 2005, с . 124]. К IV в . н . э . большинство мечни ков , как римских , так и германских , сражались длинным рубящим клинком кельтского происхож дения – « спатой » (spatha). Некоторые из мечей этого типа вышли из рук ремесленников , владевших сложной техникой ковки булатной ( дамасской ) стали . Принятие « спаты » на вооружение в римской армии было лишь одним аспектом длительного процесса « германизации » римского оружия и воо ружения [ Там же , с . 125]. Все больше варваров поступало в имперские пограничные войска . Появ ление в римских военных металлических изделиях излюбленных мотивов германского искусства – яркое тому свидетельство .
Еще один тип меча позднеримского периода – длинный меч типа рапиры с узким гибким клинком , весьма напоминающий средневековое фехтовальное оружие . Как и « спата », он использо вался как германцами , так и римлянами , хотя его родиной была империя . Кроме вещей собственно го производства германцы имели экипировку из двух источников ( торговля и грабеж ) – сначала из одного , а потом из другого [ Там же , с . 126].
До того как римляне продвинулись в западную Германию , контакт с латенскими культурами центральных и западных кельтских земель привел к импорту прекрасных латенских мечей . Через этот канал торговли ( и грабежа ) германцы , видимо , познакомились с преимуществами обоюдоост рого меча перед их собственными односторонними , похожими на секачи мечами . Уже с I в . до н . э .
импорт римского оружия , особенно мечей , помог многим германцам адекватно вооружиться . Как ни странно , огромное количество этого оружия , большая часть которого , несомненно , была трофе ем успешных набегов и войн , а меньшая – плодом контрабанды оружия через римские границы , не использовалось в обычной жизни : его посвящали богам войны и топили в болотах , предварительно сломав или согнув .
Для германского сознания меч всегда был чем - то большим , чем просто оружие . Меч ассо циировался со многими существенными сторонами человеческой жизни : в первую очередь с обя занностями короля , феодальной верностью воина своему вождю , с принесением торжественных обетов , достижением мужской зрелости , с обрядами похорон [ Алеманнская правда . 36. 2, 91; Анг лосаксонские законы , 46. 2; Салическая правда , XLVI, 1]. Меч был « собратом » (shoulder- со mpanion) короля и воина , их « товарищем » [ Гуревич , 1999, с . 37]. Без своего меча человек был пустым местом , он не мог защитить себя и свой дом . Неудивительно , что меч , боевые подвиги и сам процесс его изготовления были окружены ореолом мистики и связаны с множеством древних традиций [ Кардини , 1986, с . 65]. Хорошие клинки передавались по наследству ; зачастую у них бы ли собственные имена ; нередко их окружали легенды и табу [ Brunner , 1894, р . 22]. Меч был при личной наградой для верного дружинника или поэта и , как и корабль , постоянным предметом по этического вдохновения [ Вестготская правда , V, 2.2; Кодекс Эйриха , 310; Лангобардская правда , 172].
В агиографической литературе отмечается , что вся жизнь воина проходила в постоянных сражениях , охоте , пирах . В полной мере система отношений между членами комитата раскрыва лась во время пиров , ибо именно здесь обсуждались важные вопросы : решение о сохранении мира или начале войны , заключение примирения , брачные союзы , обещание новых подвигов , распреде ление добычи . В житии св . Мартина дается описание пира одного короля , на котором он присутст вовал как епископ города Tours (IV в .). Во время пира король передает кубок справа налево , по кру гу , но св . Мартин нарушает этот порядок , передав кубок самому достойному после себя [Life of St. Martin, XX, 1894]. В этом эпизоде показано , как пир выполняет одну из важных форм социальной связи , выявляя прежде всего единство вождя и его дружины . Пиршественные наборы в могилах , по - видимому , могут являться материальным выражением такой связи [ Лебедев , 1974, с . 163].
В целом в житийной литературе нравственные качества древних германцев – язычников ха рактеризуются отрицательно . В то же время св . Виллиброд , который отправился в VII в . нести сло во Божье в земли данов , говорил о том , что в рамках своего общества это были лучшие люди . При ведем одну из характеристик короля данов Онгенда : « более жесток , чем любой дикий зверь , и тверже , чем камень по характеру , который , тем не менее , был человеком чести » [The life of St. Wil-librord…, I, 9]. С точки зрения христианской морали поведение воинов древних германцев не всегда являлось образцом для подражания . Но это не говорит о какой - то « аморальности » их поступков . Записи обычного права германцев представляют собой нескончаемые перечни проступков , требуе мых возмещения . Просто они находились в иной плоскости , они принадлежали комитату , чья жизнь строилась на иных ценностях [ Гуревич , 1972, с . 112].
Таким образом, на основании имеющихся материалов можно утверждать, что военное сообщество древних германцев было динамично развивающейся структурой со своей системой ценностей, взглядов и представлений, которая была тесно связана с их религиозными воззрениями. Развитие королевской власти влекло за собой изменения в сфере религиозных представлений и форме захоронений. Изменения в характере захоронений носили волновой характер: погребения становились основной формой захоронения на территориях, которые располагались ближе к римским границам и имели более тесные социально-экономические, политические и культурные связи с Римом. Региональная специфика германского мира нашла отражение в военной иерархии германского сообщества и статусе оружия. Нарративные и археологические источники позволяют выделить три уровня в иерархии военного сообщества, характерные для всех племен древних германцев. Первоначально основными элементами вооружения являлись копье, топор и щит, разные типы которых были связаны с национальными особенностями. Мечи встречались нечасто, в основном это были односторонние мечи – «саксы». С развитием социально-экономических отношений между Римской империей и германским миром количество мечей увеличивалось и меч становился основным элементом вооружения германского воина [Brather, 2005, р. 9; Grane, 2007, р. 85; Chadwick, 1961, р. 54]. Статус меча был неодинаков у разных германских племен, ибо с учетом фактора римского влияния определяющую роль в вооружении и системе ценностей древнегерманского воина играли межплеменные отношения.
Древние германцы представляли собой единый уникальный организм , который существовал по своим законам , впитывая элементы чужой культуры , трансформируя и вплетая их в ткань своей культуры . Внутри германского мира существовала прочная связь , наличие которой объясняет осо бое положение древнегерманских племен Британии и Скандинавии , выступающих индикатором изменений структуры внутреннего и внешнего мира древнегерманского военного сообщества .
Список литературы Древнегерманское дружинное сообщество по данным археологии и нарративной традиции
- Алеманнская правда//Алеманнское и баварское общество VIII и начала IX вв./под ред. Г.М. Даниловой. Петрозаводск, 1969.
- Англосаксонские законы: Законы Этельберта, Законы Хлотаря и Эдрика, Законы Унтреда, Законы Инэ//Хрестоматия по истории средних веков/под ред. С.Д. Сказкина. М., 1961. Т.1.
- Вестготская правда//Хрестоматия по истории средних веков/под ред. С.Д. Сказкина. М., 1961. Т.1.
- Гуревич А.Я. Диалектика судьбы у германцев и древних скандинавов. Человеческое достоинство и социальная структура. URL: http://norse.ulver.com/texts/index.html (дата обращения: 11.05.06).
- Гуревич А.Я. Древние германцы. Викинги//Избранные труды. М.; СПб., 1999. Т. 1.
- Гуревич А.Я. История и сага. М., 1972.
- Дуров В.С. Художественная историография Древнего Рима. СПб., 1993.
- Дэвидсон Х.Э. Древние скандинавы. Сыны Северных богов. М., 2005.
- Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1986.
- Кодекс Эйриха//Хрестоматия по истории средних веков/под ред. С.Д. Сказкина. М., 1961. Т.1.
- Лангобардская правда.//Хрестоматия по истории средних веков/под ред. С.Д. Сказкина. М., 1961. Т.1.
- Лебедев Г.С. Шведские погребения в ладье VII-XI вв.//Скандинавский сборник. Таллин, 1974. Вып. 19.
- Лосев А.Ф. Античная литература. М., 2005.
- Лукомский Л.Ю. Аммиан Марцеллин и его книга//Марцеллин Аммиан. Римская история. М., 1996.
- Марцеллин Аммиан. История, XXVII, 1.5; XXXI//Древние германцы: сб. док./сост. Б.Н. Граков и др. М., 1937.
- Салическая правда//Хрестоматия по истории средних веков/под ред. С.Д. Сказкина. М., 1961. Т.1.
- Санников С.В. Религия на службе королевской власти в дохристианской Германии и Скандинавии//Вестник Новосибирского государственного университета. Сер.: История, филология. 2005. Т. 4, вып. 1: История.
- Симпсон Ж. Викинги: быт, религия, культура. М., 2005.
- Тацит Корнелий. Германия//Древние германцы: сб. док./сост. Б.Н. Граков и др. М., 1937.
- Тодд М. Варвары. Древние германцы. Быт, религия, культура. М., 2005.
- Тройский И.М. История античной литературы. Л., 1946.
- Brather S. Acculturation and ethnogenesis along the frontier: Rome and the ancient germans in an archaeological perspective. London, 2005.
- Brunner H. Forschungen zur Geschichte des deutschen und franzosischen Rechtes. Stuttgart, 1894.
- Chadwick H. S. Soldiers and setters in Britain, IV-V century//Medieval archaeology. 1961. Vol. 5.
- Fitch E. The Rites of Odin. St. Paul, MN: Llewellyn, 2003.
- Grane T. Scandinavian armies in the late Roman period//XVII Roman military equipment conference. Zagreb, 2010.
- Ilkjaer J. Centres of power in Scandinavia before the medieval kingdoms//Birgit Arrhenius. Kingdoms and regionality: transactions from the 49th Sachsensymposium, 1998, in Uppsala. Stockholm University, 2001.
- Life of St. Columba//Talbot S.N. Anglo-Saxon missioners in Germany. New York, 1954.
- Life of St. Martin//Roberts A. A select library of Nicene and Post-Nicene fathers of the Christian church. New York, 1894.
- Matesi S. Elements of military equipment from Thorsberg Moor//XVII Roman military equipment conference. Zagreb, 2010.
- Russell J. The germanization of early medieval Christianity. Oxford, 1994.
- St. Ludger, bishop of Munster, apostle of Saxony//Talbot S.N. Anglo-Saxon missioners in Germany. New York, 1954.
- The life of Lebuin//Talbot S.N. Anglo-Saxon missioners in Germany. New York, 1954.
- The life of St. Willibrord by Alcuin. I, 14//Noble T.F.X., Head T. Soldiers of Christ: Saint and Saint's lives from late antiquity and the early middle ages. Pennsylvania, 1995.
- Todd M. Germanic burials in the Roman Iron Age//Burial in the Roman World. London: Council for British Archaeology, 1977.
- Carnap-Bornheim C. von. Romische Militaria aus der jtingeren romischen Kaiserzeit in Norwegen -«Ex-port» romischer negotiatores oder «Import» germanischer principes?//Peregrinatio Gothica III. Oslo, 1992.