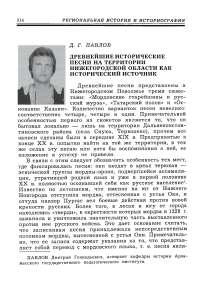Древнейшие исторические песни на территории Нижегородской области как исторический источник
Автор: Павлов Д.Г.
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Региональная история и историография
Статья в выпуске: 4 (57), 2006 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ содержания старинных песен, найденных на территории Нижегородской области, которые представляют собой источник исторической информации. Выделены общие и своеобразные интриги.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222278
IDR: 147222278
Текст краткого сообщения Древнейшие исторические песни на территории Нижегородской области как исторический источник
Древнейшие песни представлены в Нижегородском Поволжье тремя сюжетами: «Мордовские старейшины и русский мурза», «Татарский полон» и «Ос нование Казани». Количество вариантов песен невелико: соответственно четыре, четыре и один. Примечательной особенностью первого из сюжетов является то, что он бытовал локально — лишь на территории Дальнеконстантиновского района (села Сиуха, Терюшево), причем все записи сделаны были в середине XIX в. Предпринятые в конце XX в. попытки найти на той же территории, в тех же селах эту песню или хотя бы воспоминания о ней, ее изложение к успеху не привели.
В связи с этим следует обозначить особенность тех мест, где фиксировалась песня: они входят в ареал терюхан — этнической группы мордвы-эрзян, подвергшейся ассимиляции, утратившей родной язык и уже в первой половине XX в. полностью осознавшей себя как русское население1. Известно по летописям, что именно на юг от Нижнего Новгорода отступила мордва, оттесненная с устья Оки, и оттуда инязор Пургас вел боевые действия против новой крепости русских. Более того, в лесах к югу от города находились «тверди», в окрестности которых мордва в 1228 г. заманила и уничтожила значительную часть выставленного против нее русского войска. Это дает основание считать, что записанная песня принадлежала непосредственным потомкам мордвы, вытесненной с устья Оки. Примечательно, что ее записи содержат указания на то, что представляет собой перевод с мордовского языка, т. е. песня явля-
ПАВЛОВ Дмитрий Геннадьевич, аспирант кафедры истории Арзамасского государственного педагогического института.
ется фактом мордовского, а не русского фольклора. Следует предположить, что это вытеснение с давно обжитых и выгодных с географической и стратегической точек зрения мест было одним из драматичных событий истории этноса, память о котором передавалась на протяжении поколений.
Сюжет песни в следующем: во время мордовского моления (озкса) мимо Дятловых гор (возвышенный правый берег впадения Оки в Волгу) проплывал «московский мурза», который по традиции дарообмена получил дары жрецов и якобы из-за происшедшей ошибки принял их за выражение ему покорности. Песня запечатлела ключевое событие периода колонизации Нижегородского Поволжья. Как источник песня обращает на себя внимание обстоятельным, реалистичным изображением древнего быта, обычаев мордвы. Она содержит описание моления с указанием на то, какой была жертвенная пища, во что полагалось одеваться «молельщикам». Примечательно упоминание как ключевого момента установления взаимоотношений между народами архаичного обычая дарообмена, при котором в передаваемые предметы вкладывается конкретный смысл. Это представляет важный материал для изучения этнографии, истории первобытного общества, поскольку позволяет приобщиться к логике сознания человека традиционного общества.
Интересна анахронистическая идентификация русского правителя как «мурзы московского», позволяющая сделать вывод о том, кого мордва воспринимала в качестве источника власти в эпоху бытования произведения. Понятием мурзы в Нижегородском Поволжье обозначался правитель, что было связано с Казанским ханством, подчинением ему и платой дани (любопытно, что в местах записи песни распространена фамилия потомков мордвы Мурзаев). Что же касается характеристики «московский», то она запечатлевает устоявшиеся на протяжении веков в регионе представления о государственном центре, откуда в принципе может исходить власть. В целом маршрут движения «мурзы» «по Воложке, по Камышке» свидетельствует о том, что ему уже подчинена значительная территория, и он располагает достаточными ресурсами для укрепления своей власти. Примечательно то, что «мурза» предстает по отношению к мордве в некоей цивилизаторской функции. Он
«открывает» территорию, где она живет и затем создает на ней новое хозяйство — основывает города и селения.
Мордовское население относится к «мурзе» как к существу высшему. Обратим внимание на то, что он появляется в момент моления, т. е. в момент призвания богов. Ошибка, происшедшая во время обмена дарами, лишь констатируется песней. Эта ошибка в своем роде сакральна, находится «в руках судьбы и богов»: в ней виновны юноши, не понимавшие, что творят. В песне не присутствует идея необходимости насильственного исправления ситуации — ее можно трактовать как волю высших сил, и это, вероятно, соответствует пониманию власти в средние века.
Песня объясняет потомкам мордвы, жившей в устье Оки, что же произошло в момент ее вытеснения и задает отношение к этому событию (приходу русских на территорию). Она учит, с одной стороны, необходимости сохранять этническую память, с другой — не меньшей необходимости толерантного отношения к появившемуся в регионе русскому населению. Это воспринимается как проявление исторически неотвратимой этнической судьбы мордвы.
Песня сюжета «Татарский полон» не обладает четкой локализацией записей, к тому же варианты ее фиксировались как в XIX в., так и в XX в., хотя и единично. В ее основе — широко распространенный в эпосе сюжет о попавшей в татарский плен матери, узнавшей в жене хана свою дочь, угнанную много лет назад.
Сравнивая фольклорный материал русских Нижегородского Поволжья и мордвы более южных регионов, можно обнаружить, что упомянутая выше песня о татарском полоне имеет у двух народов близкие сюжеты, что, вероятно, указывает на общее происхождение. А. М. Шаронов, основываясь на анализе общинных отношений, отраженных в аналогичных мордовских песнях, считает, что произведение возникло в XVI—XVIII вв.2 Можно предположить заимствование песни одним народом у другого в ходе межэтнических контактов или даже в результате русификации, а также то, что произведения создавались у двух народов одновременно. Но при заимствовании песня сохранила бы сюжет в больших подробностях, на самом же деле в текстах различия значительны (у мордвы девушка узнает в пленнике брата; у русских мать встречается с дочерью).
Это свидетельствует в пользу одновременного создания под влиянием одинаковых условий похожих песен разными соседствующими народами. Этими одинаковыми условиями было в первую очередь соседство со «злыми татарами» — Казанским ханством, в жизни которого важное место занимал захват пленников, практиковались набеги на прилегающие территории. Именно в таком ключе это трактуется и в народных преданиях Поволжья, записанных у русских, мордвы, чувашей, марийцев, и в древнерусской литературе. Упоминание в одном из вариантов речки Дарьи3 обозначает как место действия некую чужую и отдаленную территорию, которую чрезвычайно трудно идентифицировать.
Любопытна для понимания того, как формировалась эпическая песенная культура региона, песня «Основание Казани». Она записана только в одном варианте на русском языке от Л. Ф. Самилкиной, уроженки Большеигнатовского района Мордовии4. В своде русских исторических песен5 этот сюжет не отмечен, между тем в своде мордовских песен6 он имеется.
Песня повествует о жертвоприношении при основании города, чрезвычайно напоминая сюжеты преданий об истории Нижегородского Кремля и укреплений в Большом Мурашкине. Она фиксирует не только сам связанный с традиционными верованиями древний обычай, но и его восприятие человеком средневековья. При выборе жертвы (Федосьюшки) бросают жребий, и его результат дедом Тихоном воспринимается как то, что уже нельзя отменить. Песня изображает трагедию семьи, которая сопровождает Федосьюшку к месту жертвоприношения и, смирившись с ситуацией, однако не может ее пережить: «упала неживой ее матушка», «упал без памяти родной батюшка», «упали семеро братьев». Между тем трагическая жертва не оказывается напрасной. Песня завершается мыслью о ее значении для дальнейшей судьбы города:
«А Казань-город до сих пор стоит, До сих пор стоит, до сих пор цветет»7.
Связь с основанием Казани этой песни представляется нам условной. По логике песни жертва движется к Казани с запада, с русских земель (что запечатлевает маршрут походов русских войск на Казань), сам город воспринима- ется как русский, хотя общеизвестно, что он являлся столицей ханства, противостоявшего западным соседям. Это, безусловно, анахронистическое представление о событии и можно предположить связь песни с более поздним периодом обживания новых восточных территорий, завоеванных Москвой в XVI в.
Древнейшие нижегородские исторические песни по своим сюжетам привязаны к региону. Все известные тексты так или иначе принадлежат мордовской эпической традиции, что свидетельствует об исходно автохтонном характере локальной эпической традиции в сфере интересующего нас жанра. Материал свидетельствует о пограничном характере территории во времена создания этих песен. В таком ключе она и воспринималась у их носителей. Исторические песни могут послужить ценным источником в понимании того, что можно обозначить как сознание человека средневековья — его понимание исторической судьбы народа, сущности образующейся государственной власти, принципов межэтнических отношений. Песни запечатлевают восприятие народом становление государственных институтов и управления регионом. Вместе с тем как источник такой материал требует значительной осторожности. Древнейшие исторические песни Нижегородского Поволжья лишь фиксируют тенденции в отражении народным сознанием общего хода развития территории, но анахроничны, условны в деталях.
Список литературы Древнейшие исторические песни на территории Нижегородской области как исторический источник
- Мельников-Печерский П. И. Очерки мордвы. Саранск, 1981;
- Мокшим Н. Ф. Этническая история мордвы: Автореф. дис.... д-ра ист. наук. М., 1980
- Морохин Н. В. Фольклор в традиционной региональной экологической культуре Нижегородского Поволжья. Киев, 1997
- Трубе Л. Л. География нерусского населения Горьковской области // Зап. краеведов. Горький, 1981. С. 12-20.
- Шаронов А. М. Мордовский героический эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2001. С. 10-13.
- Нижегородские исторические песни: Сб. / Под ред. Н. В. Морохина. Н. Новгород, 2000. С. 49.
- Там же. С. 51-52, 265.
- Исторические песни XIII-XVI веков / Сост. Б. Н. Путилов,Б. М. Добровольский. М.; Л., 1960.
- Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 2, кн. 2 / Сост. Л. С. Кавтаськин. Саранск, 1977.
- Нижегородские исторические песни. С. 52.