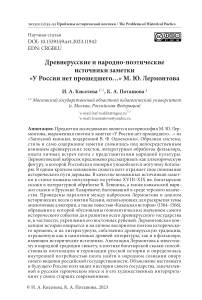Древнерусские и народно-поэтические источники заметки «У России нет прошедшего...» Лермонтова
Автор: Киселева Ирина Александровна, Поташова Ксения Алексеевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
Предметом исследования является историософия М. Ю. Лермонтова, выраженная поэтом в заметке «У России нет прошедшего…» из «Записной книжки, подаренной В. Ф. Одоевским». Образная система, стиль и само содержание заметки сложились под непосредственным влиянием древнерусских текстов, литературных обработок фольклора, опыта личных встреч поэта с представителями народной культуры. Лермонтовский набросок предложено рассматривать как аллегорическую фигуру, в которой Российская империя уподобляется могучему богатырю. В одном кратком изложении сюжета поэт отражает свое понимание исторического пути державы. В качестве возможных источников заметки в статье названы популярные на рубеже XVIII-XIX вв. богатырские сказки в литературной обработке В. Левшина, а также кавказский вариант сказки о Еруслане Лазаревиче, бытовавший в среде терского казачества. Проведены параллели между наброском Лермонтова и циклом исторических песен о взятии Казани, использующих для раскрытия темы аналогичные аллегории, а также повестью «Казанская история» (1564-1566), обращения к которой обусловлены геополитическим значением самого исторического события для развития всего древнерусского государства и, в частности, укрепления его восточных рубежей. Лермонтовская концепция истории опирается и на личное восприятие поэтом исторического времени, и на литературную, собственно древнерусскую традицию, отраженную как в памятниках древней литературы, так и в фольклоре, имеющем исторические источники. Апелляция Лермонтова к известному в народной традиции сюжету, к поэтике богатырской сказки способствовала поэтизации и героизации русской истории и определялась внутренней потребностью поэта найти в народном сознании опору своего видения российской государственности. Объяснение настоящего и будущего России поэт видел в истории своего государства, запечатленной в русском героическом эпосе и в его художественных интерпретациях у своих старших современников.
М. ю. лермонтов, заметка, у России нет прошедшего, государственность, восточный текст, кавказ, история, фольклорные мотивы, древнерусская литература, генезис
Короткий адрес: https://sciup.org/147239851
IDR: 147239851 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.11942
Текст научной статьи Древнерусские и народно-поэтические источники заметки «У России нет прошедшего...» Лермонтова
Древнерусские и фольклорные мотивы отчетливо звучат в произведениях М. Ю. Лермонтова, связанных с его размышлениями о русской истории: в поэмах «Последний сын вольности», «Боярин Орша», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» и др., в его героической лирике («Два великана», «Бородино» и др.). Однако, несмотря на то что лермонтоведение является областью достаточно изученной, древнерусские и народнопоэтические корни его творчества в соотношении с историософскими взглядами поэта серьезному исследованию практически не подвергались, хотя уже Н. М. Мендельсон замечал, что именно тогда, когда «Лермонтовъ серьезно задумался надъ вопросами о правахъ человѣчества и народности, о судьбахъ европейскаго запада и Россіи», особенно развился его «инте-ресъ къ прошлому родины, къ народной поэзіи, съ юныхъ лѣтъ жившій въ душѣ поэта» [Мендельсон: 176]. Исследователи не раз отмечали, что мастерство Лермонтова состоит «в воссоздании быта и колорита эпохи» [Штокмар: 273] и, безусловно, опиралось на знание древней традиции, следование «русским народным песням» [Владимиров: 214]; поэт удосужился получить похвалы даже от такого своего строгого критика, как С. П. Шевырев, который говорил по поводу «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», что «это созданiе въ духѣ и стилѣ нашихъ древнихъ эпическихъ пѣсенъ»1. Древнерусский и народный дискурс присутствует как в стиле и образной системе лермонтовских текстов, начиная с юношеских размышлений и заканчивая реалистическими текстами, написанными незадолго до смерти и связанными с Кавказской войной, в которой поэт принимал непосредственное участие, так и на уровне выражения идеи. Нельзя не согласиться с замечанием Б. М. Эйхенбаума о том, что «с 1837 г. фольклор прочно входит в поэтическую работу Лермонтова — не в качестве особой языковой стилизации, а в качестве тематических и сюжетных способов выражения мысли» [Эйхенбаум: 45]. Древнерусский элемент в его историософском измерении определил и сюжет, и образную систему заметки Лермонтова «У России нет прошедшего…» из «Записной книжки, подаренной В. Ф. Одоевским»2, где на л. 7 присутствует помета «Востокъ» — своего рода рамочный компонент указанной тетради, позволяющий рассматривать заметку в контексте лермонтовского кавказского текста; практически всегда, как отмечал К. М. Азадовский, «восточная тема выступает у Лермонтова как тема кавказская», а лермонтовское «восприятие Кавказа» представлено «в плане национальной героики» [Азадовский: 236].
Характеризуя «Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», показательную для усвоения поэтом русской народной культуры, В. Г. Белинский писал, что «здесь поэт от настоящего мира не удовлетворяющей его русской жизни перенесся в ее историческое прошедшее, подслушал биение его пульса, проник в сокровеннейшие и глубочайшие тайники его духа, сроднился и слился с ним всем существом своим, обвеялся его звуками, усвоил себе склад его старинной речи, простодушную суровость его нравов, богатырскую силу и широкий размет его чувства…» [Белинский: 504]. Однозначно принимая высокую оценку художественных достоинств поэмы, нельзя полностью согласиться с тезисом о неприятии поэтом современности («не удовлетворяющей его русской жизни»), хотя и очевидно, что для человека христианской культуры любая действительность в рамках земного мира не может полностью быть соизмерима с идеалом, и с тем, что момент неудовлетворенности своим поколением лейтмотивом проходит во всем его творчестве, однако это не исключает и его веры в историческую мощь Российского государства в его «настоящем и будущем». Употребление Белинским слова «прошедшее» (а, например, не слова «прошлое») является косвенным доказательством связи в сознании критика «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» и заметки Лермонтова «У России нет прошедшего…», опубликованной в «Отечественных записках»3 за 1844 г. Нами уже были приведены аргументы о важности употребления Лермонтовым субстантивированного прилагательного прошедшее, подчеркивающего «живую жизнь российской истории (истории как прошлого) "в настоящем и будущем"» [Киселева, По-ташова, 2022b: 273]. Если для Белинского изображение Лермонтовым истории есть изображение прошедшего, то для Лермонтова прошедшего нет («У России нет прошедшего…»): то, что он изображает, есть настоящее для его личностного самосознания, именно потому поэт и слышит «биение» «пульса» исторического прошлого.
Особая образная система и особый народный стиль характерны не только для эпической «Песни про царя Ивана Васильевича…», но и для небольшой лермонтовской заметки, которую можно считать наброском к масштабному произведению, а можно рассматривать как развернутую афористическую формулу, емко отражающую видение поэтом особенности государственного феномена России:
«У Россiи нѣтъ прошедшаго: она вся въ настоящемъ и буду-щемъ. Сказывается сказка: Ерусланъ Лазаревичь сидѣлъ сид-немъ 20 лѣтъ и спалъ крепко4 но на 21 году проснулся отъ тя- желаго сна. и всталъ и пошелъ и встрѣтилъ онъ тридцать семь
Королей и 70 богатырей и побилъ ихъ и сѣлъ надъ ними царствовать» (л. 7 об.).
Заметка представляет собой аллегорическую фигуру, в которой Российская империя уподобляется могучему богатырю и всего в одном кратком изложении сюжета отражает всю суть исторического пути державы.
К моменту возникновения у Лермонтова настоящего замысла только начиналось постепенное открытие былины как жанра фольклора, в каноничном виде было опубликовано несколько былинных сюжетов в собрании «Древнероссийских стихотворений Кирши Данилова». Основной же состав былинных сюжетов станет известен во 2 половине XIX в. как результат профессиональной собирательской деятельности фольклористов в северных губерниях России. Былинные сюжеты в 1830-х — начале 1840-х гг. были известны по жанровым трансформациям: былевой прозе, пересказам, литературным обработкам, — что и обуславливает прозаическую форму лермонтовского наброска, своего рода наметку богатырской сказки. Лермонтов заимствует из народной традиции и систему образов, в которой особое место отведено главному герою, обладающему невероятной силой, и сам принцип аллегорического олицетворения, знаковый для поэта «при изображении русской мощи» [Киселева, Поташова, 2022a: 96]. Лермонтов уже в своем раннем неоконченном историческом романе «Вадим» дает примечательную характеристику русскому народу: «этот сторукий исполин»5. Примечательно, что чуть позже Н. В. Гоголь, возможно, под влиянием лермонтовского стихотворения «Бородино» (1837), связанного с изображением духовной мощи русского народа, сила которого подчиняется только «Господней воле»6, напишет в «Мертвых душах» (1842): «Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернут ься и пройтись ему?»7.
Внимание Лермонтова к народному стилю и былинным мотивам отвечало характерному для русской культуры рубежа XVIII–XIX вв. «активному освоению и усвоению в русской литературе былинных сюжетов, героев, тем, топики, формул и концептов», о чем свидетельствуют «рукописные и печатные публикации записей былин XVIII века» [Захарова, 2015b: 93]. К народной традиции с целью выразить свое понимание русского характера и национального образа мира обращались Г. Р. Державин («Добрыня, театральное представление с музыкою, в пяти действиях» (1804) и др.), В. А. Жуковский («Богатырь Алеша Попович, или Страшные развалины» (1806) и др.), В. И. Даль («Илья Муромец. Сказка Руси богатырской» (1836) и др.) и другие современники Лермонтова. Интерес к народному эпосу, в котором «наиболее важным, решающим признаком» является « героический характер его содержания » [Пропп: 5], способствовал поэтизации и героизации русской истории, сохраняя при этом свойственную былинам и историческим песням «установку на достоверность, реальность» [Захарова, 2015a: 147]. Эта достоверность проявлялась не только в том, что сказитель, или автор, трактовал событие как реальное прошлое, но и в том, что оно становилось мерой истины.
История в художественной системе Лермонтова практически всегда сопрягалась с народной поэтической традицией, что проявилось как со стороны использования фольклорных формул, так и на содержательном уровне. Фольклорный сюжет в лермонтовской заметке «У России нет прошедшего…» также открывается фразой, задающей народный стиль: «сказывается сказка». Однако в данном контексте эта фольклорная формула не только выступает в функции традиционного запева («скоро сказка сказывается»), предваряющего дальнейшее повествование, но является примером использования Лермонтовым устойчивого словосочетания из древнерусского исторического повествования. Выражение «сказывается сказка» использовалось, как указывает В. И. Даль, в древнерусских грамотах и приказах в значении «толкованье, объясненье, речь, ответ»: «В 1672 году, янв. 15, была сказана у посольского приказа сказка о поражении Стеньки Разина»8; «180 года Ген-варя въ 15 день, такова сказка сказана у Посольскаго приказа»9. Следующая часть представляет собой собственно повествование, основу которого составляет фольклорный сюжет:
«Ерусланъ Лазаревичь сидѣлъ сиднемъ 20 лѣтъ и спалъ крепко но на 21 году проснулся отъ тяжелаго сна. и всталъ и пошелъ и встрѣтилъ онъ тридцать семь Королей и 70 богатырей».
Эта часть заканчивается типичным фольклорным исходом: «и побилъ ихъ и сѣлъ надъ ними царствовать» (л. 7 об.). Центральная часть наброска представляет собой синтез сказочного начала с традициями русского героического эпоса (былины и исторической песни).
Нами уже были указаны возможные источники лермонтовского сюжета об Еруслане Лазаревиче, к которым относятся «Приключения собственные богатыря Булата», «Приключения богатыря Сидона»10, «Сказка о тридесяти трех летнем сидне Иване, крестьянском сыне и как сделался он чрез разум свой и хитрость великим царем»11 (см.: [Киселева, Поташо-ва, 2022b: 277–278]). Также можно добавить в качестве возможного вдохновляющего поэта материала известное с XVII в. «Сказание и похождение о храбрости, о младости, и до старости его бытия, младого юноши и прекрасного русского богатыря, зело послушати дивно, Еруслана Лазаревича», которое было популярно на рубеже XVIII–XIX вв. и не раз издавалось (1797, 1817). Сам образ Еруслана Лазаревича утвердился в литературе как символ отважного воина-витязя, чем и было обусловлено адаптированное именование главного героя поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». Однако во всех этих вариантах отсутствует указание на Еруслана в образе сидня. Нет такого образа и в наиболее популярном в народе и, очевидно, известном Лермонтову варианте «Сказания о Еруслане Лазаревиче» по списку М. П. Погодина (1773). Мотив обретения чудесной силы немощным человеком отсутствовал и в известных во времена Лермонтова сказках народов Кавказа и Средней Азии об Еруслане Лазаревиче. Напротив, в сюжете об освобождении Ерусланом персидского шаха Киркоуса из темницы указывается, что герой с детства обладал небывалой физической мощью («А как Уруслан будет двунадцети лет, ино никаков конь поднять ево не может»12). В то же время восточная редакция сказки об Еруслане Лазаревиче примечательна в связи с размышлениями Лермонтова о Кавказе. В ней есть примечательная сцена, в которой герой будит ото сна русского богатыря Ивана, вступает с ним в поединок, но в кульминационный момент боя не решается забрать жизнь у богатыря, напротив, братается с ним. Притом, заявляя о братских чувствах и выказывая чувство товарищества, признает его право быть старшим: «Ударил ему ниско челом, а сам ему молвит: Буди, господине, мне княз Иван болшей брат»13.
Стоит отметить, что и в заметке Лермонтова, и в богатырских сказках богатырь сражается с другими богатырями, которые представляют силу извне, то есть богатырь — это не исключительный, наделенный силой божественного происхождения воин-носитель христианской добродетели, как то представляется в канонических былинах («Ваша силушка буде от Бога»14), а обобщенный образ, именование воинов-силачей, которых «побил», то есть победил Еруслан Лазаревич. В литературной традиции первой половины XIX в. в подобном значении слово богатырь можно встретить не раз (напр., у Пушкина: «Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится»15 («Капитанская дочка»), «Вы грозны на словах — попробуйте на деле! / Иль старый богатырь, покойный на постеле, / Не в силах завинтить свой измаильский штык?»16 («Клеветникам России»)).
Наряду с сильными воинами, вражескую сторону представляют «тридцать семь королей». В XIX в. слово король было нейтральным обозначением «государя, управляющего королевством»17. У Лермонтова употребление слова король ближе к его древнерусскому и фольклорному использованию: короли в военных повествованиях и героическом эпосе являются типичными героями-противниками. В древнерусском повествовании королем также называется иноземный правитель, с которым могут воевать («Рано король оударѧ оу бубнъ и тако исполца полкъ своа»18) или строить дипломатические отношения («то же веремѧ королъ присла къ Изѧславу»19). Независимо от места своего правления королем называется Батый в исторической песне «Авдотья-Рязаночка» («Славные старые король Бахмет турецкие»20), литовский князь Стефан Баторий в песне «Осада Пскова» («Король с королевичем / С паном-Гетманом Хотеновичем / Не отдам я тебе города без бою»21; «Сходилися два война два великие / Белого царя с королевскими»22), поляк Сигизмунд III в песне «Оборона Смоленска» («Наступает король литовский, / Наступает-то на город на Смоленск»23), шведский король Густав Первый («А черный ворон — то шведский король»24).
Следуя фольклорной традиции изображения врага многочисленным, Лермонтов исчисляет: против одного Еруслана Лазаревича оказывается тридцать семь королей и семьдесят богатырей. Акцентом на числовое выражение врага поэт подчеркивает непобедимость и сверхъестественную силу богатыря, продиктованную необходимостью защиты родины, долга по отношению к ней как высшего состояния человеческого духа. Духовная мощь Еруслана Лазаревича проявляется и в заключительной фразе, обозначающей значимый поворот в истории: «сѣлъ надъ ними царствовать» (л. 7 об.).
Помимо сказочных и былинных сюжетов, истоки лермонтовской заметки могут корениться и в цикле исторических песен о взятии Казани и древнерусской повести XVI в. «Казанская история». В пользу знакомства Лермонтова с «Казанской историей» говорит и сам факт создания им «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Исследователи отмечали, что Лермонтов представляет героев поэмы не «в духе концепции Карамзина», а «противопоставляет этому пониманию народную точку зрения» [Азадовский: 257]. Обращение к историческим песням о взятии Казани и к «Казанской истории» помогает уточнить истоки стилевых особенностей заметки «У России нет прошедшего…», в основе синтаксического построения которой лежит принцип перечисления действий персонажей. Сами номинации этих действий у Лермонтова повторяют череду событий и их результат в «Казанской истории»: «сташа во вратѣх града и у полых мѣстъ, и сняшася с русью и с татары»25, «и пойде с ними, прииде с честию в Казань»26 (у Лермонтова — «и встал и пошел и встретил»), «и побиша ихъ 17 000, а 2000 взяша в плѣнъ»27, «И сѣдъ на велицем царствии державы»28
(у Лермонтова — «и побил их и сел над ними царствовать»). Построение предложения у Лермонтова приближено к древнерусскому повествованию, для которого ведущими были объемные конструкции «из объединяемых в сложное простых предложений» с союзом «и» [Иванов: 387]. Союз «и» в таком случае скрепляет череду предложений, организованных в повествование «по принципу грамматически однородного нанизывания предложений на однородную нить» [Ломтев: 70]. Аналогичное построение имеет и набросок Лермонтова: весь ряд действий Еруслана Лазаревича дается в одном сложном предложении. Каждое действие и его обстоятельства могли бы составить самостоятельное предложение, соединение же этих конструкций посредством союза «и» делает ряд простых предложений частями одного сложного, при этом все действия показывают, что происходило, когда богатырь проснулся и стал совершать деяния «как ратного, так и духовного, в его противопоставлении противнику» [Захарова, 2018: 149], значения. Построенная на аллегории пробуждения от сна и собирании могучей силы лермонтовская заметка повторяет фольклорные образы из исторических песен о Казанском царстве, в которых подобные «имперские гиперболы» [Котельников: 69] являются ведущими художественными средствами реализации военно-патриотической темы. В исторических песнях с этим сюжетом, бытовавших в среде терского казачества, используется яркий метафоричный образ о необыкновенной силе самого царя Иоанна Васильевича. Эта сила предстает либо обобщенно как сила самого правителя («А из сильного Московского царства / Подымался великий князь московски<й>, / А Иван-сударь Васильевич прозритель»29), или же показывается процесс ее накопления и приумножения («Как он, Грозен царь Иван Васильевич, / Скоплял силушку ровно тридцать лет, / Ровно тридцать лет, еще три года; / Со-коплёмши свою силушку, воевать пошел / Он под славное царство Казанское…»30). Обращение Лермонтова к этому историческому событию обусловлено значением победы над Казанским ханством для развития древнерусского государства:
взятие Казани окончательно освободило Россию от татаромонгольской зависимости и позволило ей укрепить свои восточные рубежи.
Примечательно, что «Казанская история» на протяжении всего XVIII в. бытовала в многочисленных списках. В конце XVIII — первой трети XIX в. сложилась литературная традиция соотнесения победы русских над Казанским ханством с современными историческими событиями: победой над Наполеоном, Русско-турецкой войной, присоединением Крымского ханства к Российской империи. В этом ключе примечательны стихи из эпической поэмы М. М. Хераскова «Россиа-да», воспевающие «победу целого Российского государства» [Завьялова: 138]; а в его «Историческом предисловии» к «Взгляду на эпические поэмы» «время правления Иоанна Грозного осмысляется как момент исторической бифуркации» [Брее-ва: 70]. Особенно интересен в связи с заметкой Лермонтова «У России нет прошедшего…» созданный М. М. Херасковым в поэме «Россиада» образ царя Иоанна Васильевича, «объятого сном» («Где смутным Иоанн лежал объятый сном…»31) и не думающего о походе на Казань («Ты спишь, беспечный царь, покоем услажденный, / Весельем упоен, к победам в свет рожденный…»32); когда угроза со стороны казанцев возрастает, царь поднимает силы, результатом становится значимая победа («Иоанн вновь царство приобрел»; «Подъемлет высоко Москва верхи златые, / И храмы пением наполнились святые; / Любовью видит царь возженные сердца, / Зрит в подданных детей, они в царе — отца…»33). Примечательны и объяснения самого Хераскова в связи с его обращением к теме Казанского царства, отвечающие в полной мере и лермонтовскому замыслу:
«Воспевая разрушение Казанского царства <…>, я имел в виду успокоение, славу и благосостояние всего Российского государства; знаменитые подвиги не только одного государя, но всего российского воинства; и возвращенное благоденствие <…> целому отеч еству…»34.
Подобную параллель видим и у Г. Р. Державина в своеобразном предисловии к своему оперному либретто «Грозный, или Покорение Казани», где он пишет, что Казань уподобляется Парижу, а Александр I — Иоанну IV:
«Содержанiе ея я взялъ изъ казанской исторiи и тамошняго края татарскаго баснословiя. Къ нынѣшнимъ военнымъ обсто-ятельствамъ мнѣ показалось оное прилично»35.
То есть «сюжет оперы, написанной в год победы над наполеоновской Францией, представлен в ракурсе исторической ретроспекции» [Ларкович: 48]. Такой мыслительный опыт исторической ретроспекции естественен и для Лермонтова, так что рассмотрение подобного контекста заметки «У России нет прошедшего…» и представленная его интерпретация находятся вполне в задаваемом текстом «спектре адекватности» [Есаулов: 8].
Лермонтовская заметка может продолжить перечень произведений, указывающих на героическое прошлое России и историческую жизнь настоящего, но уже в контексте Кавказских военных событий. Как и Казань, Кавказ исторически находился в геополитическом пространстве соперничества России и Турции, на которое накладываются и проблемы религиозного доминирования в государственном модусе. Как Казанский поход, так и Кавказская война исторически являются частью восточной политики Российского государства и собственно частью политики укрепления Российской державы в целом. Как пушкинская «Полтава», выразившая «всероссийскую историческую мысль» [Гулин: 4], может быть вызвана событиями Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. («поэт дает зарисовку портрета героя Кавказской войны Ермолова <…> вверху 23-го листа тетради с черновиками "Полтавы"» [Керцелли: 140], в той же тетради изображает себя в образе турецкого всадника), так и лермонтовская заметка об Еруслане Лазаревиче имеет ассоциативно-смысловую общность с историей взятия Казани и Кавказской войной, современным поэту историческим событием, вокруг которого оформляются художественные образы.
Позже Ф. М. Достоевский в своих немногих стихотворениях 1854–1856 гг., связанных с Крымской войной, также будет использовать «принцип уподобления: современные политические испытания уподоблены войне 1812 года, испытания России — страданиям Христа, Церковь — телу Христову, вдовствующая императрица-мать — Богоматери, вступающий на престол царь — Петру I» [Захаров: 53]. Историческая тематика в ее философском измерении начинает особенно интересовать Достоевского именно в эпоху его духовных поисков, уже обретших опору в христианском мировоззрении, после того, как «он узнал народ и сам, по его словам, стал народом » [Захаров: 53]. Принцип уподобления, являясь ведущим в христианской экзегезе и будучи одним из основных признаков религиозного сознания, которым является и русское народное сознание, опирается на известное высказывание Христа: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5:17). Противостояние России внешнему врагу и ее победы мыслились народным сознанием как духовная необходимость, связанная с жертвенным уподоблением Самому Христу, Царское достоинство Которого запечатлено и в следующем Его призыве: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28–30). Подытоживая свою заметку словами об Еруслане Лазаревиче, который «сѣлъ надъ ними царствовать» (л. 7 об.), Лермонтов актуализирует и эти смыслы, в зримом выражении связанные с победой России в противостоянии с Турцией, интересы которой были в зоне русско-кавказских отношений лермонтовского времени. Присоединение Кавказа, освоение русскими Востока мыслилось в народном сознании как приближение к духовному освобождению Царьграда. Позже об этом скажет и Ф. М. Достоевский: «Константинополь есть центр восточного мира, а духовный центр восточного мира и глава его есть Россия»36.
Заметка Лермонтова «У России нет прошедшего…», несмотря на свой эскизный характер, является особо значимой для понимания лермонтовской историософии и определена реакцией поэта на современные ему события, знанием российской истории, художественно выраженной им и в иных его историко-поэтических произведениях. В заметке отразилось чтение поэтом как собственно исторических, историкохудожественных, публицистических трудов его современников (см.: [Киселева, Поташова, 2022b]), осмысление публикуемых в его время древнерусских текстов, обработок фольклора, так и опыт личных встреч с представителями терского казачества и коренных народов Кавказа — носителями традиций устной культуры. В сознании Лермонтова традиции фольклора и древнерусской литературы, выступающей «союзницей российской государственности» [Виноградов: 47], тесно переплетены и связаны с имперской идеей. Поэт смотрит на историю России в ее прошлом, настоящем и будущем глазами своего народа, его личное и национальное (народное) сознание предстают в данном тексте единым целым. Как в стихотворении «Бородино» поэт показывает битву глазами простого человека, участника событий и выразителя национального самосознания, а главным героем «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» оказывается человек из народа — купец Калашников, стоящий «за святую правду-матушку»37, так и в этой аллегорической заметке поэт говорит языком, стилем и образами народной национальной поэтической стихии, является выразителем национальной идеи духовного избранничества Российского государства, его подвижнического богатырского потенциала. Обращение Лермонтова к народному сюжету определялось его внутренней потребностью найти опору своего видения российской государственности и объяснение настоящего и будущего России в толще народного сознания, выкристаллизованного в героическом народном эпосе.
http://vestnik-sk.ru/russian/archive/2018/tom-50/zaxarova (accessed on November 25, 2022). (In Russ.)