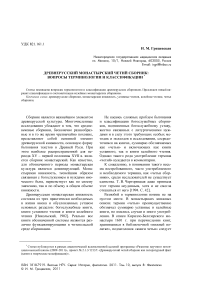Древнерусский монастырский четий сборник: вопросы терминологии и классификации
Автор: Грицевская Ирина Михайловна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Четий сборник как феномен литературной культуры русского средневековья
Статья в выпуске: 8 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам терминологии и классификации древнерусских сборников. Предложен новый вариант классификации и систематизации келейных монастырских сборников.
Древнерусские сборники, монастырская книжность, уставные чтения, келейное чтение, четьи сборники
Короткий адрес: https://sciup.org/14737586
IDR: 14737586 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Древнерусский монастырский четий сборник: вопросы терминологии и классификации
Сборник является важнейшим элементом древнерусской культуры. Многочисленные исследования убеждают в том, что средневековые сборники, бесконечно разнообразные и в то же время чрезвычайно похожие, представляют собой основной элемент древнерусской книжности, основную форму бытования текстов в Древней Руси. При этом наиболее распространенной для периода XV – первой половины XVII в. является сборник монастырский. Как известно, для обозначенного периода монастырская культура является доминирующей. Монастырская книжность, теснейшим образом связанная с богослужением и нуждами иноческого быта, первенствует как по своему значению, так и по объему в общем объеме книжности.
Древнерусская монастырская книжность состояла из трех практически необходимых в жизни инока и обусловленных уставом основных разделов: богослужебные книги, книги уставного чтения и книги келейного чтения [Никольский, 1902]. Реально все книги обозначенной системы являются различно функционирующими в читательской среде сборниками.
Не касаясь сложных проблем бытования и классификации богослужебных сборников, подчиненных богослужебному уставу, жестко связанных с литургическими нуждами и в силу этого требующих особых методик и подходов в исследовании, сосредоточимся на книгах, суммарно обозначаемых как «четьи» и включающих как книги уставного, так и книги келейного чтения. Однако такого рода употребление термина «четий» нуждается в комментарии.
К сожалению, в понимании такого весьма востребованного, часто употребляемого и необходимого термина, как «четьи сборники», среди исследователей не существует единства. Т. В. Черторицкая даже признала этот термин неудачным, хотя и не смогла отказаться от него [1994. С. 42].
Разнобой в терминологии возник не на пустом месте. В монастырских книжных описях термин «четьи» преимущественно обозначал суммарно уставные и келейные книги, но имелись случаи и иного употребления. В описи Кирилло-Белозерского монастыря 1601 г. при перечислении книг, хранившихся в библиотечной «нижней по-латке», подзаголовок «книги четьи» следует после перечисления служебных книг, перед уставными и келейными 1. В описях Соловецкого монастыря значение термина расплывчато. Впервые он появляется в описи 1549 г. После перечня всех книг «в десть» в этой описи следует подзаголовок «да пятьдесят книг с книгою четьих в полдесть». Далее идет перечисление всех книг «в полдесть», как уставных, так и келейных, без дальнейших подразделений 2. Употребление этого термина в описи 1570 г. менее понятно. Здесь имеются указания на некие (нерасписанные) «пять сборников четьих в полдесть» и «шесть книг четьих в четверть» 3. В описи 1597 г. термин «четьи» уже определенно меняет свое значение, из суммарного термина (уставные + келейные) превращаясь в термин, скорее связанный с келейной книжностью. Здесь имеются указания «Книга четья в четверть Василий Новый», «книга четья в восьмину», «Книга четья цветники в полдесть» 4. В описях книг Волоколамского монастыря термин не употреблялся 5.
У исследователей древнерусской книжности, как уже отмечалось, также нет единообразия в понимании термина. Так, Н. К. Никольский термином «четьи книги», в противоположность «келейным» обозначал сборники уставных чтений, используемых для чтения в соборе, во время службы и на трапезе. Такое понимание термина не чуждо и некоторым современным исследователям: в этом смысле он используется в статье А. И. Пентковского, посвященной церковным уставам [2004. С. 153–171].
Напротив, Р. П. Дмитриева дает такое определение этому терминологическому словосочетанию: «Под четьими сборниками мы понимаем те рукописи, которые предназначались для чтения на досуге. Именно в составе этих сборников преимущественно сохранились литературные произведения».
Аналогичного употребления термина придерживается А. А. Турилов, что отражено в «Предварительном списке славяно-русских рукописных книг XV в., хранящихся в СССР» 6. Термин «четий сборник» здесь поясняется через перечень памятников, входящих в него: «жития, слова, повести и др.».
Своеобразно понимание этого термина у В. Федера, отнесшего его к сборникам бесструктурного, «калейдоскопического» состава [Veder, 1999].
О. В. Твороговым и Т. В. Черторицкой данный термин понимается как суммарный, относимый и к уставному, и к келейному чтению, в противопоставление терминам «служебные книги», «служебные сборники» [Творогов, 1988; 1990; 1993; 1999; Черто-рицкая, 1994]. Это же понимание термина выражено в коллективной статье «Четьи сборники Древней Руси», входящей в «Исследовательские материалы для “Словаря книжников и книжности Древней Руси”» [Четьи сборники, 1985]. Такое употребление термина представляется наиболее оправданным, исходящим из понимания русской книжности как единой системы.
Имеются также проблемы, связанные с употреблением терминов «уставное чтение», «сборники уставного чтения». В исследовательских материалах для «Словаря книжников и книжности Древней Руси» этому термину дано такое определение: «Уставные чтения – сборники нравоучительно-повествовательного характера, состоящие в основном из произведений дидактического и торжественного красноречия, агиографических сочинений, а также полемических слов, толкований, кратких нравоучительных сентенций. У. ч. – четьи сборники, возникшие и распространившиеся согласно требованиям церковного устава в дополнение и обоснование служебных книг и устной проповеди, служили просветительским целям христианской церкви. У. ч. предназначались как для коллективного, так и для индивидуального чтения в положенное уставом время и по определенному уставом порядку» [Чер-торицкая, 1985а. С. 236].
Таким образом, автор очень широко понимает термин «уставные чтения», включая в их состав множество памятников, чтение которых не определялось уставом. Примером сборников уставного чтения служат здесь такие книги, как Изборник 1073 г., «Измарагд», «Пандекты» Никона Черногорца, что представляется не вполне обоснованным. На наш взгляд, термин «уставные чтения» относится к текстам, являющимся по характеру функционирования «парали-тургическими». В современной научной литературе этот термин используется для обозначения текстов, используемых во время разного рода церемоний и сопровождающих и поясняющих собственно литургические, служебные. Так, В. М. Лурье использовал его при обсуждении особенностей функционирования агиографических текстов, служащих для разъяснения особенностей богослужения и конкретных культов и использующихся как в «паралитургических» ситуациях (например, на трапезе), так и прямо во время богослужения [2009. С. 42]. Именно паралитургические тексты в русской научной литературе принято обозначать термином «уставные чтения».
Исследователи предлагают разные варианты классификации и терминологии уставных и келейных сборников. Один из них был предложен болгарской исследовательницей А. Милтеновой. Свою статью она посвящает выделению типа сборника, который обозначает как «сборник смешанного содержания». Для того чтобы полно охарактеризовать такого рода сборник, исследовательница выделяет «наиболее общие принципы, которые могут послужить как опорные пункты для предварительной классификации сборников» [Милтенова, 1980]. Это следующие принципы разделения сборников: 1) по предназначению (функциональный принцип); 2) по устойчивости состава (структурный принцип); 3) по содержанию (тематический принцип); 4) по жанровым признакам; 5) по языковому изводу (лингвистический принцип).
Значительно более развернутая система классификации четьих сборников (с особым упором на сборники уставных чтений) предложена Т. В. Черторицкой [1994. С. 38– 53]. Эта классификация охватывает огромные объемы самой разнообразной в структурном отношении книжности. Все «четьи книги» поделены здесь на «библейские» и «небиблейские (т. е. «имеющие к Библии косвенное отношение»), далее идет подразделение «небиблейских» сборников на кни- ги «преимущественно повествовательной, учебной и исторической направленности» и книги «преимущественно богословского, духовного направления»). Последние, собственно, и приравниваются исследовательницей к «уставным чтениям». Далее уже «уставные чтения» делятся на сборники «календарные», «некалендарные» и «календарно-некалендарные». Таким образом, понимание самого термина «уставные чтения» и соответственно представление о сборниках уставного чтения у Т. В. Черторицкой отчасти включает и те книги, которые никоим образом не могут быть использованы во время богослужения и лишь характеризуются богословской тематикой.
Безусловно, отношение к Библии и библейским книгам, вообще тематические аспекты книги являются важнейшим критерием, однако, как кажется, построение классификации сборников должно основываться все же не на этом параметре, а на функции книги в системе древнерусской книжности. На наш взгляд, при классификации четьих книг обязательно должно быть представлено разделение всех «четьих сборников» в первую очередь на «уставные» и «келейные» в соответствии с особенностями их использования в системе монастырского чтения. В этом случае снимается ряд неувязок классификации, например выведение библейских четьих сборников за рамки некалендарных сборников устойчивого и неустойчивого состава.
Тем не менее нельзя отрицать ценности представленной Т. В. Черторицкой классификации. Ею расширены и прокомментированы основные принципы классификации сборников, установленные А. Милтеновой. В представлении Т. В. Черторицкой, сборники могут быть классифицированы по следующим принципам:
-
• организация литературного материала – календарные (например, Златоусты, Четьи-Минеи); смешанные календарно-некалендарного состава; некалендарные (например, «Паренесис» Ефрема Сирина, «Ле-ствица» Иоанна Синайского) 7;
-
• календарная приуроченность статей к солнечному или лунному календарю среди календарных и календарно-некалендарных сборников – сборники минейные (Четьи-Минеи, минейный Торжественник, Пролог), сборники триодные (Златоуст, триодный Торжественник, Рай), сборники триодно-минейные (Торжественник общий, Учительное Евангелие смешанного состава), смешанные, включающие минейную, триодную и некалендарную части;
-
• принадлежность сочинений одному или нескольким авторам;
-
• жанровая характеристика статей сборника;
-
• типологическая характеристика – сборники устойчивого, относительно устойчивого и неустойчивого характера (в качестве примеров последних приведены как Изборник 1073 г., так и «Великие Четьи Минеи» митрополита Макария).
Данное представление о классификации сборников уставного чтения, несомненно, является полным и практически полезным, однако с учетом необходимости выведения книг келейного чтения за пределы данной схемы и построения для них собственной систематизации.
Еще одна классификация сборников предложена исследовательницей С. А. Се-мячко [2002]. Если Т. В. Черторицкая в своей классификации отдает предпочтение книгам уставного чтения, то предмет С. А. Семячко иной – это сборники, не имеющие уставного характера, предполагающие использование вне богослужения и трапезы, в келейном чтении. Исследовательница называет их по традиции, идущей от Р. П. Дмитриевой, «четьими». В своей классификации С. А. Семячко основывается на тех целях и задачах, которые ставили книжники при составлении сборников. Исходя из целей книжников исследовательница выделяет четыре типа сборников: 1) сборники, состав которых сложился более или менее случайно; 2) сборники, составленные вполне осознанно из произведений, которые специально подбирались и разыскивались; при этом целью составителя были тексты, а не сборник; 3) сборники, нарочито составленные, хотя и не оформленные как единая книга; целью книжника было именно составление сборника; 4) сборники, изначально оформленные как законченные единицы.
Данная классификация представляет полезный инструментарий при изучении сборников. Однако исследовательница тесно связывает ее с разграничением сборников на сборники устойчивого и неустойчивого характера (и различных вариаций этих характеристик), считая, что именно цель книжника, составлявшего сборник, определяла названную базовую характеристику. На наш взгляд, такой подход справедлив лишь отчасти. Важнейшую роль в характеристиках сборников, в том числе и в плане устойчивости-неустойчивости состава, играют не только особенности создания сборников, но и особенности их рецепции. Имеется в виду функционирование сборников в среде книжников, особенности практик чтения, на основании которых строилась книжность, системность и иерархия книжного репертуара, входившего в нее. Строить классификацию сборников, основываясь лишь на целях составителя, опасно в связи с возможностью впасть в модернизацию, проецируя в Средневековье опыт современной культуры, гораздо более отражающей волю и цели авторов.
Согласно своим функциям в монастырской книжности «четьи сборники», в нашем представлении, подразделяются на «уставные» и «келейные». Однако, выделяя эти две группы сборников, нельзя не отметить, что такое разделение достаточно условно. Для раннего периода существования древнерусской книжности затруднительно провести четкую грань как между «келейным» и «уставным» чтением, так и между келейными и уставными сборниками. Представляется, что монастырское чтение как относительно жесткая система сформировалось лишь к концу XIV – началу XV в. Четьи сборники, созданные до этого времени, часто трудно отнести к разряду уставных или внеуставных 8. Чтения, определенно используемые на службе или на трапезе, упорядоченные согласно календарю, перемежаются в них со статьями явно не календарными и определенно не для соборного чтения. Таков, например, известный Успенский сбор- ник конца XII – начала XIII в. 9, Златоструй и Торжественник XII в. 10
Эта черта оставалась в целом характерной и для сборников XIV – начала XV в. О. В. Творогов в статье, в которой он дает общую характеристику комплекса сборников XI – начала XV в., пишет о сборнике 11, что он «в наибольшей степени, чем другие рассматриваемые здесь сборники, отвечает нашим представлениям о структуре календарного сборника триодного цикла». При этом исследователь отмечает множество статей, нарушающих принцип построения календарного триодного сборника. Все другие рассмотренные в названной работе сборники еще меньше подходят под сложившиеся в XV в. образцы разных жанров уставной книжности [Творогов, 1988].
Лишь в XV в. сложился круг сборников устойчивого состава, однозначно направленных на уставное общинное монастырское чтение [Черторицкая, 1985б]. В настоящее время имеются многочисленные исследования, посвященные «уставным сборникам», «сборникам уставного чтения». Возникло достаточно четкое представление о системе и структуре «уставного чтения», диктуемого служебными уставами. Поэтому, несмотря на некоторую условность разделения «уставное чтение» – «келейное чтение», все же данное разграничение объективно присутствует в книжности XV–XVII вв., хотя бы как общая тенденция. При том что некоторые списки Торжественников могли использоваться (и использовались) для келейного чтения, тем не менее невозможно отрицать отнесение данного типа книги к уставному чтению, поскольку основной функцией ее было обеспечение общественного богослужения и монастырской трапезы чтениями, предписанными уставами различных уровней.
Основываясь на положениях, высказанных А. Милтеновой и Т. В. Черторицкой, выделим следующие виды классификации сборников: типологическую, структурную, жанрово-тематическую.
Келейные сборники, как и сборники уставного чтения, в самом общем виде обычно принято делить на сборники устойчивого и неустойчивого (индивидуального) состава. Этот принцип классификации обосновывался Д. С. Лихачевым [2001. С. 241–244]. А. Милтенова называет такой принцип «структурным», а Т. В. Черториц-кая – «типологическим». Последний вариант терминологии представляется более удачным, поскольку данное разделение не выявляет структуру сборника. В самом деле, обозначение рукописи как «сборника устойчивого состава» не дает нам никаких представлений о ее структуре, но дает сведения о характерных особенностях ее бытования в книжности.
Наиболее разработанным типом классификации сборников является жанровотематическая. Она выражается лишь как тенденция, поскольку сборники келейного чтения, как правило, очень индивидуальны. Часто (но не всегда) они «всеядны» и в большинстве своем на первый взгляд хаотичны в подборе тем и жанров. В одном сборнике могут уживаться очень разные произведения: патеричная апофтегма соседствует с астрологическим трактатом, апокриф мирно уживается с индексом истинных и ложных книг. Выделение «светского» и «церковного» аспектов (и соответственно «светских» и «церковно-богословских» сборников) для средневековой книжности в большинстве случаев бывает неправомерно: «естественно-научные» трактаты, беллетри-зованное повествование, исторические сочинения погружены в море текстов богословского и этико-аскетического характера. Мало того, все внешне «небогословские» тексты подчинены чисто богословским целям; естественнонаучные трактаты призваны показать мощь и разнообразие божьего творения, исторические сочинения служат демонстрации величия и силы божьего промысла, остросюжетное повествование рассказывает о препонах, возникающих перед праведниками в ходе их служения Господу. Абсолютное большинство рассматриваемых нами сборников келейного чтения принадлежит к типу «религиозно-учительных книг», о которых писала В. П. Адрианова-Перетц. Исследовательница отмечала, что такие книги «имели вид сборников то разнообразного содержания, в том числе и религиозноучительного, то с тематически подобранным материалом» [1974. С. 6].
В последнее время в исследованиях, посвященных мисцелланологической тематике, проявляется еще одна в подспудном виде существующая классификация сборников – классификация структурная, которой хотелось бы коснуться более подробно. В соответствии с ней исследователи выделяют три вида сборников: 1) относительно объемных памятников (своды); 2) содержащие одно большое произведение и дополнительные статьи; 3) включающие в себя разнообразные крупные и мелкие тексты и фрагменты текстов, отдельные выписки и подборки выписок.
Отметим, что данная классификация не является чисто формальной, но связана с глубинными закономерностями создания сборников. Об этом можно судить по связям данной классификации с типологической и жанрово-тематической.
Большую трудность вызывает терминологическое обозначение позиций этой классификации. Разные исследователи предлагают варианты терминологии, не всегда удачные. Один из предложенных вариантов [Егорова, 2004], противопоставляет «сборники-своды» (сборники относительно крупных и цельных памятников) и «собственно сборники» (сборники разнообразных крупных и мелких фрагментов, выписок). Если первый термин («сборники-своды») представляется приемлемым, то второй, без всякого сомнения, нуждается в замене в силу своей тавтологичности. Н. Ю. Бубнов предложил для подобных сборников термин «сборники сложного состава» [1995. С. 27– 28]. Этот термин, на наш взгляд, также не слишком удачен (сложным составом характеризуется любой сборник).
Иногда в описаниях рукописных собраний для подобных сборников употребляется термин «сборник смешанного содержания (состава)». Этот же термин использует А. Милтенова для обозначения особого варианта сборника XVI–XVII вв., с неустойчивым составом и разнообразным содержанием, однако обладающего определенной спецификой в сравнении с «обычным» четьим сборником. Эту специфику исследовательница видит в том, что сборники смешанного содержания «удовлетворяют интересы широкой народной аудитории и составлены книжниками, близкими такой аудитории, происходящими главным образом из среды низшего духовенства. Содер- жание их сообразно познавательным потребностям читателя, отсюда и специфические особенности жанра – краткость и доступность включенных в них материалов, фольклорные вставки и т. д.» [Милтенова, 1980. С. 34].
Таким образом, термин «сборники смешанного содержания (состава) используется весьма разнообразно. Представляется, что данный термин скорее должен относиться не к структурной, а к тематической классификации.
Но как же терминологически полноценно обозначить сборники, которые в настоящее время могут быть представлены лишь описательно – как сборники неустойчивого состава, келейного назначения, структурно хаотичные, без определенных жанровых и тематических характеристик, состоящие из текстов разного объема и характера, часто содержащие кодикологические швы? К сожалению, для обозначения данной реалии в настоящее время в научной литературе не сложилось терминологического определения. Как указывалось выше, ряд исследователей обозначает такого рода сборники термином «четьи», однако это использование термина представляется сужением его значения. Нам кажется уместным предложить иной термин для обозначения подобных сборников – «центонный сборник» 12.
Напомним особенности употребления термина «центон» в литературоведческой традиции. Центоном, по определению М. Л. Гаспарова, называется стихотворение, составленное из строк других стихотворений. Художественный эффект здесь в подобии или контрасте нового контекста и воспоминаний о прежнем контексте каждого фрагмента [Литературная энциклопедия…, 2001]. Данный жанр является распространенным в позднеантичной и средневековой западноевропейской литературах. Так, известны христианские центоны, созданные на основе произведений Вергилия, Гомера, Еврипида. Жанр центона был также востребован в эпоху барокко. В русской барочной литературе этот жанр проявил себя в поэзии Сильвестра Медведева.
Конечно, употребление термина «цен-тон» в приложении к древнерусским сбор- никам не связано с современной литературоведческой традицией его использования. Однако предложенное нами осмысление возвращает нас к изначальному значению латинского термина, возникшему от слова «cento», – одежда или одеяло из лоскутов. Такая метафора весьма уместна при описании структуры определенного вида древнерусских сборников. Добавим к этому, что корень cent-, означающий «сто», ассоциируется со словом «сотницы» – обычным обозначением произведений аскетического жанра, очень частых в келейных сборниках.
Прекрасную характеристику дала таким сборникам Р. П. Дмитриева [1972]. Описывая структуру, наиболее часто встречаемую среди «энциклопедических» сборников, исследовательница отмечала, что они не писались по заранее продуманному плану, а просто владелец рукописи постепенно подбирал и включал в свой сборник понравившиеся и вновь появившиеся произведения. Поэтому обычно в таких рукописях не бывает тематического подбора: произведения на одну и ту же тему оказываются в разных частях сборника. Характерными чертами подобных сборников являлось наличие большого числа мелких статей. Крупные произведения здесь были представлены чаще всего небольшими отрывками. Анализируемые сборники, как отмечает исследовательница, очень редко копировались, почти никогда они не имели никакой рукописной традиции, оставаясь строго индивидуальными.
Образцом центонного сборника может служить недавно изданный Кирилло-Белозерский сборник № XII 13 [Энциклопедия русского игумена…, 2003]. Поражает пестрота и разнообразие содержания этого сборника. Так, в начале приведен ряд статей канонического характера, взятых из трех разных источников. Сюда помещен целый ряд разнообразных епитимийников, указания которых противоречат друг другу. Как отмечает Г. М. Прохоров, сборники Кирилла (в настоящее время их известно 12) чрезвычайно полно отражают личность, нужды, вкусы и широту интересов святого Кирилла. Исследователь в целом характеризует тако- го рода сборники как «энциклопедические» сборники четье-справочного характера и отмечает, что их обычный формат – 8-я доля листа. Эти сборники стали образцом для более поздних кирилловских книжников, сборники с подобным составом и оформлением характерны для Кирилло-Белозерского монастыря в XV в. [Прохоров, 1981].
Сходные характеристики структуры дает в статьях об аскетических сборниках М. С. Егорова [2004]. Ту же специфику мы видим в огромном количестве самых разных сборников. Это и большая часть Ефроси-новских сборников [Каган и др., 1980], и сборники отцов Выга, выделяемые А. И. Плигузовым [1982. С. 102–112]. Аналогичную структуру центонных сборников отмечают и другие авторы.
В качестве примера приведем анализ типичного центонного сборника XV в. (ТСЛ, 759) 14. В описании один из почерков этой рукописи справедливо идентифицирован как почерк троицкого инока Елисея, которым написаны Служебник и Требник с писцовой записью 1476 г. 15 Р. П. Дмитриева называет данный сборник в числе «четьих» Троице-Сергиева монастыря [1972. С. 158]. По филиграням рукопись датируется концом XV в. Сборник написан целым рядом почерков (более 5-ти), имеется несколько кодикологических швов. Вначале сборника следуют блоки материалов, посвященных Иоанну Богослову и Иоанну Златоусту (л. 1–82 и 84–316). Оба указанных блока переписаны одним почерком. Далее, вторым и третьим почерком переписано житие Мар-тиниана (л. 316–350, почерки перемежаются) и только третьим почерком – обширный блок разнообразных материалов на л. 350 об. – 418 об. (Житие Февронии, подборка мелких статей и отрывков, заслуживающая в содержательном плане внимания, «Повесть о ва́ рваре-разбойнице», Житие Пелагии, св. Нила «о осьмих помыслех», «Главы добродетельние» Феодора Едесско-го). В конце этого блока, судя по оглавлению, должно было идти Сказание об Афродитиане, однако листы с ним вырезаны.
Далее, 4-м почерком (л. 420–444) переписано известное слово Палладия мниха (характерная ошибка: Палладий в заголовке назван Даниилом) «о втором пришествии и о страшном суде и о будущей муце и о умилении души». И далее несколько различного объема текстов переписаны каждый своим почерком: л. 444 об. («Месяца априля в 1 день житие преподобныя матери нашея Марии Египетьскы, списано Софронием Иерусалимским. Тайну цареву…» переписано скорописным почерком Елисея); л. 464 об. – 468 («Повесть полезна от старчества о некоем старце, сидевшем в пустыни 40 лет кому подобен»); л. 468 («Севериа-на Гевальского о крестном древе», переписано почерком Елисея); л. 472 (Слово св. Иоанна Златоуста «о ползе души» (о пьянстве), почерк Елисея) л. 471 («Словеса святых отец душеполезна» – подборка фрагментов о пьянстве, об угождении плоти, о любодеянии, гневе и пр., завершается фрагментом о десяти казнях египетских); л. 476–482 («От жития святого Андрея», о том, как св. Андрей спасает мужа некоей Нанеори, пьяницу и блудника). С л. 484 (после кодикологического шва) и до конца рукописи идет еще одна – богослужебная – часть сборника. Она написана единым почерком, ранее не встречавшимся в кодексе, и включает подборку разных треб и молитв (основанию церкви и потычению кресту; священию церкви малого священия; устав о поколебавшейся трапезе; молитвы «об от-верзении церкви еже от еретик оскверниви-шеся» Никифора патриарха и Тарасия патриарха; молитва «на отверзение церкви от язык оскверньшеися»; другие молитвы «на отверзение церкви» после различных видов осквернений).
Таким образом, состав этого сборника очень пестр. В нем имеются как четьи, так и служебные статьи, и при этом служебные статьи нельзя назвать текстами, практически необходимыми иноку в повседневной жизни. Жития, входящие в состав сборника, в большинстве своем сюжетно интересны, это жития-романы о раскаявшихся блудницах (святые Пелагея и Мария Египетская), фрагмент из Жития Андрея Юродивого. Близка по сюжету (раскаявшийся грешник) и включенная сюда «Повесть о ва́ рваре-разбойнице». Вообще тематически сборник «всеяден». Здесь имеются и эсхатологический текст (Слово Палладия мниха), и апок- рифы (Сказание об Афродитиане, Слово Севериана Гевальского о крестном древе), и аскетические материалы (Нила о осьми помыслах, Главы добродетельные Феодосия Едесского).
Структуру сборника характеризует раз-ноуровневость. Так, в него включены два микросборника (две подборки текстов и фрагментов). Первый (л. 377 – 382 об.) не имеет особого названия, второй (л. 471–476) называется «Словеса святых отец душеполезна».
В первую подборку (микросборник?) входят следующие тексты:
-
1) Правило Халкидонского собора (индекс ложных книг), л. 377;
-
2) «На преставление святыя Богородица» (толкования, посвященные призванию апостолов и последним дням жизни Богородицы), л. 378 об.;
-
3) «Аще кто на разбойничестве убиен будет…» (о епитимьях на воров разбойников, на тех, кто «предаст град на предание иному царю», а также на царей и князей, которые приказывают «тати и разбойникы и хищни-кы убивати, руце отсецати и слепити»), л. 379;
-
4) «О пресвятей истолкование како бы и что ради» (о преставлении Богородицы; возможно, связано с текстом на л. 378 об. «На преставление…»), л. 379;
-
5) «Григория Богослова к Филагрию ответно» [Грицевская, 2004], л. 380;
-
6) «Того же Богослова о Кесарии брате его» [Там же], л. 380 об.;
-
7) «Святаго Афанасия Александрийскаго. Шествующе же непрелестный живоносный путь, око убо да извержем нечювьственое, но умное, сиреч аще епископ или презвитер сущеи очи црквии зле живут и съблажняют люди, подобает изврещи их…», л. 380 об.;
-
8) «Цари ваши и князи егда убо хотят поити на воину или на иноплеменникы, да идут убо по правде, а не рекут яко иновер-ници суть, всякого бо человека рука божиа сътвори и създа. Аще ли по насилию по-идут, сътворю убо меча их тупы, и мяккы яко олово, и оружиа ваша не остра будут, и храбрии ваши страшливи, и коня ваша ле-нивеиша сътворю. И вся случатся вам неправды ради вашеа», л. 381;
-
9) «От житиа преподобнаго отца нашего Григориа Армениискаго. Еже убо властем повиноватися от общаго владыки Христа учими есмы, но иде же душевнаго вреда
несть. А иде же душамъ суть протязается, в них же смерть, аще отец ищи и мати, аще и господь е жизни сея, никако же послушати сих, аще и смертию претят…», л. 381 16;
-
10) «Запрещение Великаго Василия к падающим иноком. Прилог помысла. безгрешен. съглаголание. Поклонов 12. Сложением запрещением виновно, борьба, или венцем или мукам вина и достоина страсть, аще убо съ осквренением нощию…», л. 381;
-
11) «От законных правил Постниково. Мужь же съ инем в бедрах…», л. 381 об. 17;
-
12) «Яко глаголет божественный Златоуст, яко съгрещающим нам бог въздвижет на нас врагы… (отрывок о любви к врагам)», л. 382;
-
13) «Зри и прочитаи съ страхом божиим. Живот мал мир усилен. Добродетель болез-на, греси мнози. Диавол крепок, смерть близь. Яже по смерти страшна, душа не уготована. Суди при дверех, и судиа неукротим и мука неутешима. Възопи: О горе. Блаженъ град от благочьствыих царь царствуем, и корабль от искусных окормлеемь, и мона-стирь от въздръжникъ строим. Горе граду от нечьстьвых царствуему, и монастырю от сластолюбивых строиму. Граду бо плениться, корабль же разбиется, монастырь же запустеет. Дондеже душа любит славу чело-вечю, далече есть славы Божиа. Пръвое отвращение иноку смех и дръзость. Велика жалость праведнику за мало съгрешение, а грешнику за много съгрешение мала печаль», л. 382;
-
14) «Изрядную прествятую честную де-вицю, истинную Богородицу. Се изрече Кирилл Александриский, патриарх в святей литургии. Егда Нестора извергоша и про-кляша…», л. 382 об.;
-
15) «В той же день слово о варваре раз-боинице, како приведе его Бог покаянию и спасеся», л. 382 об.;
-
16) «Месяца октября в 8 день житие пре-подобныя матери нашея Пелагеи», л. 385.
Почерк кончается на л. 394 об. (здесь «кодикологический шов»).
Приведенная подборка небольших текстов и фрагментов сама представляет собой миниатюрный келейный сборник разнообразных интересующих составителя материалов. Особый интерес вызывает тот факт, что нам практически известен ее составитель – это троицкий монах Елисей, чьим почерком она и переписана. Данная подборка представляется слишком личной, чтобы писать ее по чьему-то заказу. Несомненно, она сделана для себя. В дальнейшем она попала в сборник, возможно, в целом также составленный Елисеем. За входящими в нее текстами и фрагментами встает своеобразная личность, человек со своей судьбой и своими проблемами. Его волнуют общественные интересы, его занимают судьбы князей и их деяния. Он, возможно, не без критики относится как к ним, так и к церковным властям. Составитель не чужд поэтического взгляда на мир: так, в его подборке несколько текстов высокохудожественны. Вероятно, до монашеского пострига составитель не был особо праведен – не случайно его так интересуют истории о раскаявшихся грешниках. И наконец, кажется, у Елисея имелись проблемы с блудными помыслами.
Таким образом, изучение микросборника – подборки мелких текстов, входящих в древнерусский сборник, – дает нам возможность познакомиться поближе с троицким монахом Елисеем. Перед нами человек со своим взглядом на мир, мудрый и наивный, поэтичный и прагматичный, свободный и зависимый – средневековый монах-книжник.
Итак, центонные сборники являются сложнейшими коллажами, усваивающими чужие тексты и преподносящими их со своей точки зрения. Им свойственно богатейшее тематическое разнообразие, и это отмечали практически все исследователи, занимавшиеся ими. Жанрово-тематическая отнесенность центонного сборника всегда более или менее условна.
Помимо сборников-сводов и центонных сборников, а также структур, являющихся переходными между этими двумя формами, необходимо отметить существование в древнерусской книжности еще одного структурного типа. Важно представить как самостоятельное структурное единство сборники, содержащие одно большое произведение и дополнительные статьи («приложения»). Подобные структуры чрезвычайно распространены в средневековой русской книжности.
В качестве примера такого сборника рассмотрим «Лествицу» 18, переписанную, судя по записи, иноком Феогностом и завершенную 13 мая 1422 г. в Кирилло-Белозерском монастыре по повелению самого Кирилла. Эта «Лествица» имеет весьма обширные добавления, или, лучше сказать, она составляет лишь начальную часть содержания сборника. Основной писец (Феогност) переписал «Лествицу» и первую часть добавлений (до л. 353 об.), последующую часть добавлений писал другой писец .
Помимо творения Иоанна Синайского, здесь читаются следующие статьи: главы «святого отца нашего Нила»; «Германа патриарха Константина града стихи добрейши к вине слезней хотящим непрестанно плака-тися деяний неподобных»; Иоанна Златоуста; «вопрос святого Василья который плач воспримем да сподобимся блаженства»; вопрос святого Варсонофия; святого Касиана «о рассуждении»; аввы Кассиана Римлянина «сказание разсуждено о злых 8 помышлениях»; «о вспоминании смерти и ненавидити мира и яже в мире»; «повести святых старец како подобает безмолвие с всяцем тщанием хранити» (подборка патериковых рассказов и изречений монахов); «слово отца Моисея суще в ските отцу Пимену»; «заповеди святого отца Стефана 12 числом»; «Севериана епископа Авальского о древе спасенаго креста где обретеся и како бысть»; «Иоанна Златоуста сказание како есть отче наш»; «пренесение мощем Иоанна Златоуста»; «старческая»; «от житий преподобных и богоносных отец наших»; «повести отца нашего Даниила о Евлогии каменосечце»; «повести Аммона мниха о убиении святых отец в Синае и Раифе»; «житие преподобного отца нашего Мартиниана». Текст «Лест-вицы» кончается на л. 258, всего же в рукописи 394 л.; таким образом, дополнения занимают около трети объема рукописи. Очевидно, что состав дополнений не подчиняется уставным требованиям и представляет собой пеструю мозаику назидательного чтения различных жанров и разнообразной тематики. Принципы включения различных текстов в состав данного сборника нуждаются в более детальном изучении, однако даже при первоначальном просмотре состава очевидно, что в начале «прибавления»
идут важные аскетические тексты отцов церкви, в конце же переписаны повести, жития и даже апокриф.
М. Г. Гальченко, рассматривая графическую систему данной рукописи, предполагает наличие разных протографов для текста собственно «Лествицы» и для добавлений [2001. С. 202]. Если протограф «Лествицы» насыщен болгаризмами, то в добавлениях их очень немного. Таким образом, можно предположить, что в целом конструкция сборника не копировалась, а создавалась заново под пером кирилловских писцов, одного из которых звали Феогностом. Вполне вероятно, что создателем этого сборника как некоего своеобразного жанрового построения был его заказчик – Кирилл Белозерский.
Какова была роль подобной книги в жизни монашеской общины, в жизни древнерусского книжника? С одной стороны, «Ле-ствица» Иоанна Синайского представляет собой уставное чтение, звучащее, согласно указаниям Иерусалимского Устава, в дни Великого Поста. С другой стороны, упоминание об этом памятнике имелось в индексе истинных книг, соотносимом с келейным чтением. И рассмотрение структуры сборника, в который входил этот текст, указывает на принадлежность данной книги келейному чтению. Отметим, что книга, несмотря на причастность к ее изготовлению Кирилла Белозерского, не включена в число келейных книг святого [Прохоров, Розов, 1982]. Очевидно, книги келейного чтения могли изготавливаться по указанию игумена для монастырской библиотеки, их изготовление не было только частным вопросом книжников-владельцев.
Важным вкладом в изучение сборников подобной же структуры является работа А. В. Вознесенского, посвященная истории московской печатной Псалтири XVI– XVII вв. [2010]. Исследователь рассматривает печатную древнерусскую Псалтирь как богослужебный сборник, входящий в систему древнерусской книжности. Он пишет: «Иерархическая структура богослужебного сборника заметна уже по выделению в нем основы, являющейся определяющей для его общего содержания, и “приложений”, отражающих пути развития этого содержания и стоящих в связи с бытованием книги… При этом “приложения” нередко образовывали свою иерархию, свидетельствующую о том, как оценивалась составителями сборника необходимость появления в нем того или иного из них. Как и в рукописях, в печатных книгах эта иерархия находила выражение в местоположении в сборнике прибавленной статьи, в особенности по отношению к его основе…» [Вознесенский, 2010. С. 131].
Таким образом, А. В. Вознесенский называет структурообразующую закономерность древнерусских сборников с ядром и «приложениями» – их иерархичность. Как мы видели, такого же рода иерархичность выявилась и в ходе наблюдений над «Лест-вицей» Кирилло-Белозерского монастыря. Исходя из этого представляется возможным предложить термин для обозначения таких сборников – «иерархические сборники».
Итак, нами предлагается следующий вид терминологии для структурной классификации келейных четьих сборников: сборники-своды, сборники центонные, сборники иерархические.
Отметим, что данная классификация не является ни жестко очерченной, ни исчерпывающей. Конечно, имеется множество сборников, имеющих «переходные» варианты структуры. Несомненно, приведенная классификация может быть развита и уточнена в ходе дальнейших исследований.
В настоящей статье предпринята попытка обосновать структурную классификацию сборников. Поскольку тема слишком обширна и значима для исследований в области древнерусской книжности, данная статья, конечно, не может решить все вопросы, возникающие при анализе структуры средневековых русских сборников, а также претендовать на бесспорность выводов. Отсутствие стандартной и общепринятой терминологии принудило автора предложить несколько своих вариантов для обозначения ряда понятий в рассматриваемой области. Осознавая спорность такого рода предложений, автор надеется лишь поставить перед научным сообществом вопрос о необходимости осмысления обозначенных данными терминами явлений и, возможно, найти им более удачное терминологическое обозначение.
OLD RUSSIAN MONASTIC READING MISCELLANIES: PROBLEMS OF TERMINOLOGY AND CLASSIFICATION