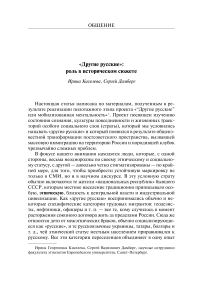«Другие русские»: роль в историческом сюжете
Автор: Киселева Ирина Георгиевна, Дамберг Сергей Вадимович
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Общение
Статья в выпуске: 3, 2001 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14911770
IDR: 14911770
Текст статьи «Другие русские»: роль в историческом сюжете
Настоящая статья написана по материалам, полученным в результате реализации пилотажного этапа проекта «“Другие русские” или мобилизованная ментальность» 1. Проект посвящен изучению состояния сознания, культуры повседневности и жизненных траекторий особого социального слоя (страты), который мы условились называть «другие русские» и который появился в результате общеизвестной трансформации постсоветского пространства, вызвавшей массовую иммиграцию на территорию России и породившей клубок чрезвычайно сложных проблем.
В фокусе нашего внимания находятся люди, которые, с одной стороны, весьма неоднородны по своему этническому и социальному статусу, с другой — довольно четко стигматизированы — по крайней мере, для того, чтобы приобрести устойчивую маркировку не только в СМИ, но и в научном дискурсе. В эту условную страту обычно включаются те жители «национальных республик» бывшего СССР, которым местное население традиционно приписывало особую, этническую , близость к центральной власти и индустриальной цивилизации. Как «другие русские» воспринимались обычно и некоторые специфические категории трудовых мигрантов: геодезисты, нефтяники, офицеры и т. п. — все те, кому случилось в момент расторжения союзного договора жить за пределами России. Сюда же относятся дети от межэтнических браков, обычно социализирующиеся как «русские», и те русскоязычные украинцы, татары, болгары и т. д., чей этнический статус местным населением приравнивался к русскому. Все эти категории переселенцев объединяет в одну опыт
Ирина Георгиевна Киселева, Сергей Вадимович Дамберг, научные сотрудники факультета этнологии Европейского университета, Санкт-Петербург.
миграции если не советского, то постсоветского периода. Поэтому наше исследование мы относим к разряду migration studies .
У исследователей, политиков, журналистов, правозащитников, пытающихся вызвать в обществе тревогу по поводу судьбы вынужденных переселенцев из новой русской диаспоры, крепнет убеждение, что объекты их защиты должны рассматриваться как прямые жертвы социальной катастрофы и ее основного следствия — дезинтеграции жизни 2. Неслучайно демографические потери русской диаспоры только за первое десятилетие дезинтеграционных процессов сопоставляются с потерями первого десятилетия после Октябрьской революции 3. Велико искушение еще раз напомнить, что в большинстве новых независимых государств проводится направленная государственная политика, провоцирующая эмиграционные процессы. А в России жизнь значительного числа вынужденных переселенцев складывается как жизнь лиц без государства 4. Реальное число вынужденных мигрантов существенно выше официальных данных миграционных служб, потому что многие не получают подзаконного статуса. Так, на начало 1998 года число зарегистрированных вынужденных мигрантов не достигало 1,5 млн человек, в то время как по независимым оценкам их численность уже в 1996 году была 3 млн человек, а экспертами ООН на тот же 1996 год зафиксирована цифра в 3,4 млн 5.
Именно поэтому в поле нашего внимания на основном этапе реализации проекта оказались так называемые «нестатусные» переселенцы. Наблюдения же пилотажного этапа в силу ряда объективных причин (главным было отсутствие информации о «нестатусных» переселенцах и контактов с ними) велись преимущественно в местах компактного расселения «статусных» переселенцев в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — там, где им было выделено жилье, приобретенное на средства федерального бюджета.
Мы сосредоточились на изучении индивидуальных траекторий миграции в тех проблемных контекстах, которые эти траектории сопровождают и вербализуются информантами, поэтому анализу на макроуровне, доминирующему при изучении миграционных процессов 6, мы предпочли анализ на микроуровне и, соответственно, качественные методы (включенное наблюдение и биографический метод — проведение нарративных и лейтмотивных интервью). Мак-роуровневые исследования прежде всего затрагивают демографическую, правовую и адаптационную проблематику; мы же стремились понять миграционные стратегии в тех значениях, которые им придают сами переселенцы.
Переходя непосредственно к анализу лейтмотивов интервью пилотажного этапа, следует сказать несколько слов о понятии роли. При его рассмотрении мы сталкиваемся с некоторой путаницей. В том, как обычно используется категория «социальная роль», по-видимому, сказывается влияние Парсонса 7: роль эта часто видится как некая универсалия 8. Достаточно вспомнить о гендерных, семейных, профессиональных и других видах ролей. Действительно, эти роли являются необходимыми элементами ситуаций социального взаимодействия, без них не построить ни одной адекватной модели ситуации. Принципиальный вопрос заключается в том, что в такой модели является определяющим: ситуация такова, каковы роли участников, или наоборот, роли всегда таковы, какова ситуация, провоцирующая участников взаимодействия на их принятие?
Все названные выше ролевые универсалии неизменно и явно выступают детерминантами описываемых ситуаций социального взаимодействия. В нашем же анализе понятие роли прямо противоположно и близко традиции Гоффмана. А эта традиция не предполагает, что роль непосредственно детерминирует социальное действие, превращая его, как у Парсонса, в ролевое исполнение ( fulfillment ). По Гоффману 9, дело обстоит несколько сложнее: роль состоит в тех презентациях ( presentation of self ), через которые она раскрывается как социальное действие. Вместе с тем нельзя считать, что наше исследование полностью вписывается в гоффманскую традицию. И не столько из-за того, что его категории выросли из анализа прямых ( face to face ) взаимодействий, сколько потому, что и его анализ не свободен от универсализации понятия роли. Нас же интересовали только те роли, которые были навязаны «другим русским» ситуацией не просто не ординарной, но и обладающей признаками настоящего исторического сюжета .
Наряду с понятием ситуативной роли, мы используем и понятие «ролевой сценарий». Это сценарий, создаваемый ролью, занимающей в нем центральное положение. Роль «других русских» возникла прежде самого сценария, и в этом смысле сначала «состоялась», а уж потом была «встроена» в сценарий. Правда, при этом встраивании сценарий распада советского пространства претерпел некоторые изменения. Собственно, он утвердился только после того, как окончательно сформировалась роль «других русских».
Напомним: под «другими русскими» мы подразумеваем русских, живших за пределами РСФСР, в союзных республиках и с распадом СССР вынужденных вернуться в Россию из-за вспышки «титульных» национализмов. Уже с этой фразы, по существу, начинается ролевой рассказ , в ней присутствуют почти все ключевые конструкты ролевого сценария. Ключевым конструктам соответствуют лейтмотивы ролевого рассказа «других русских» — рассказа об эмиграции . Этот рассказ — нарративная ролевая презентация субъектов эмиграции, то есть составная часть самой их роли. Отсюда получаем первое проектное (операциональное) определение понятия «другие русские»: ими могут быть признаны все те, кто умеет развернуть изложение ролевого сценария событий, из которых сложился исторический сюжет, и показать себя в них в заранее заданной позиции.
Отбор событий не произволен, определен для «других русских» заранее, как и занимаемая ими позиция невинных жертв этих событий. С одной стороны, кажется, что репертуар событий в каждом отдельном рассказе о вынужденном переселении сугубо индивидуален, как индивидуальны и сами биографические траектории рассказчиков. С другой стороны, все они, не сговариваясь, указывают на однородные события. В их повествованиях обязательно присутствуют: а) общеполитическая канва конфликта; б) знаки этнической дискриминации; в) роль и поступки провокаторов и виновников конфликта; г) «естественность» принятия решения о переезде и заведомая неприемлемость, а то и нелепость любых альтернатив этому решению; д) переезд как драма прощания с родным домом и свершившаяся несправедливость; е) трудности, испытываемые после переезда.
Анализ проведенных интервью позволяет выделить следующие лейтмотивы, так или иначе присутствовавшие в каждой из бесед с информантами. (Сразу же заметим, что каждый из этих лейтмотивов мы рассмотрим далее на основе некоторых ключевых секвенций интервью и дневниковых записей включенного наблюдения.)
-
1. Рассказ об эмиграции. Его основные темы: роль политиков — борьба этнических групп — несправедливость — опасность, гонения, паника и изгнание — первый, схематичный ввод категорий «мы» и «они».
-
2. «Мы там жили...» — воспоминания о прошлой жизни и работе в месте выезда.
-
3. Семейное окружение — как буферное коммуникативное пространство.
-
4. Оппозиция «свои — чужие»: осмысление этнонимов и этнофобии, дискурс интернационализма и ксенофобный фон.
-
5. «России мы не нужны!» Это рассказ о неблагодарной родине, ценностное осмысление всего пережитого после переселения, почти резюме излагаемой биографии, иногда рефреном повторяемое в ходе бесед на любую тему.
-
6. Переосмысление прошлого, когда события и обстоятельства постфактум наделяются новыми значениями, прошлое реконструируется, структурируется по-новому, превращается в готовый рассказ.
-
7. Значение места: инокультурный ландшафт, конфликт обоюдного непризнания.
-
8. Стратегии обустройства: выбор между интеграцией и адаптацией (как правило, в пользу последней).
-
9. Непроговоренное: имплицитные аксиомы, не находящие вербализации, и фоновые оценочные представления.
Как видно из перечня лейтмотивов, мы следовали логике, вытекающей из цели проекта, — исследовать состояние сознания «других русских». При таком подходе собственно биографический материал неизбежно приобретает второстепенную значимость, на первый план выходят компоненты ментальности — ценностные ориентации, поведенческие установки, усвоенные культурные нормы и стереотипы.
Рассказ об эмиграции
Этим лейтмотивом мы попытаемся обозначить большую часть ключевых конструктов того специфического ролевого сознания, которое и позволяет нам выделять «других русских» как особый социальный тип. Материал данного фрагмента является самым объемным и, как может показаться (и кажется самим информантам), самым важным. Действительно, в него включены все рассказы переселенцев о событиях, вынудивших их покинуть родину, бросить имущество, расстаться с друзьями и утратить социальный (семейный, индивидуальный) статус. Эти события драматичны, а иногда и трагичны и всегда сведены в единый сюжет с одной и той же «моралью»: свершилась страшная несправедливость. Мотив несправедливости, безусловно, доминирует и обусловливает как весь ход изложения, так и его отдельные элементы. Но при всей очевидной значимости нарративов, порожденных мотивом несправедливости, они лишь представляют «других русских» как роль.
При анализе рассказа об эмиграции нужно учесть, что общая событийная канва не столько составлена из личных впечатлений мигрантов, сколько индоктринирована публичным дискурсом. Неслучайно выражения типа «Чечня массовая» 10 наши информанты используют как общеизвестные и потому понятные без дополнительных комментариев. Не вызывают удивления и используемые ими и явно заимствованные социально-исторические дефиниции: «миграция, вот эти волнения, по поводу притеснения русскоязычного населения» (13). Так составленная и такими словами переданная канва и детерминирует все сюжетное содержание роли, которую нам предстоит описать.
Роли такого рода глубоко ситуативны, они не воспроизводятся в ином историческом контексте. В отличие от наиболее привычных нам идеально-типических ролей, скажем, гендерных или институциональных, которые эволюционируют и остаются в новых моделях повседневности, ситуативная роль «другие русские» и аналогичные ей исчезают зачастую раньше, чем уходит последнее поколение их носителей. В сознании титульного населения республик «другие русские» были маркированы своей русскостью как носители всего советского — и изгнаны этим населением. Теперь они ассимилируются, часто неосознанно, и их дети уже не относят на свой счет слово «переселенец». Но прежде им пришлось пройти долгий путь унижений — сначала в магазине родного поселка, где перестали понимать слово «хлеб», потом в миграционной службе, где вынудили проходить перерегистрацию раз в год, будто в бесконечной очереди за дорогостоящим товаром под названием «свобода». Таким вкратце мы видим сюжет ситуации, которая задает роль «другие русские». По классификации информантов сам сюжет предстает в нескольких частях.
Часть первая: характер перемен в покинутых регионах. Прежде всего, они были (или казались) разительными. «После 90-х у них (чеченцев. — Авт. ) поменялась роль женщины, заметно: юбки стали по колено и выше, ободки на голову и вообще стрижки «каре». Раньше стрижки короткие даже мы не носили. Начали обесцвечиваться. Я пока работала в салоне красоты — они приходили, когда были у них свадьбы, обручения — такие вот моменты, когда они посещали салоны красоты, они делают на длинные волосы завивку, а потом все это в пучок завязывается и под косынку» (13).
Далее, перемены во всех регионах произошли внезапно. Об этом мы знаем и из публичного дискурса; свидетельства информантов стали лишь еще одним подтверждением, поэтому мы ограничились только одной секвенцией, несколько неожиданно иллюстрирующей эту внезапность. В данном случае информант, работая парикмахером, постоянно присутствовала в публичном пространстве, что позволяло ей наблюдать повседневность горожан со стороны и выступать в роли эксперта. И именно как эксперт по «атмосфере» в городе, она видит в завивке, собранной в пучок и спрятанной под косынку, знак перемен .
Вместе с тем качество внезапности перемен было сплетено с другим их качеством, из-за чего и сама внезапность не столь очевидна. Важно понимать, чья это внезапность, кому «принадлежат» стремительные и кардинальные перемены, кто является инсайдером социальной трансформации. Индикатор принадлежности определить несложно, достаточно посмотреть, какие притяжательные местоимения употребляются в рассказах наших информантов: «их» , то есть «местных», «титульных», перемены, так же как «их» политика, «их» власти и прочее. Соответственно и внезапность — «их» внезапность.
Для большей наглядности можно сопоставить восприятие «другими русскими» перемен, происходивших в регионах выезда, с восприятием российским населением в целом перестройки и ее последствий. В обоих случаях население ни в коей мере не приписывало себе авторства происходящих событий, и для всех его категорий, в том числе и для «других русских», развернувшиеся реформы стали данностью, а не достижением. Но и данность может оцениваться как «своя» или «чужая» — в зависимости от конструкции региональной идентичности. Следовало бы учесть здесь и «национальную», или гражданскую идентичность; но мы не будем ее рассматривать, так как речь идет о регионах, составлявших в прошлом единое государство.
Здесь же рассказ о действующих лицах конфликта. «И в каждом таком — в армянине, в еврее и в русском — они (азербайджанцы. — Авт. ) видели злейшего своего врага, не взирая на лица, несмотря на то, что полвека прожили, даже больше чем полвека» (10).
Часть вторая: причины конфликта и его общий легитимный сюжет. Иногда именно эта часть и открывает беседу с непосвященным слушателем об обстоятельствах выезда. Информанты принимают на себя роль экспертов, выступают не просто как очевидцы, а как исто- рики и аналитики миграции. Немаловажной является и легитимность представляемого сюжета. Он подается как событие исторической важности, точность оценок не подвергается сомнению и подкрепляется личным авторитетом рассказчика. В повествовании фигурируют этнические группы (армяне, азербайджанцы, таджики и отдельно «мы» — русские), каждая группа выступает как единый субъект, роль которого оценивается по универсальному принципу справедливости. При подробном изложении для каждой стадии конфликта выявляется свой виновник, причем, как правило, степень вины пропорциональна культурной дистанции, отделяющей его от рассказчика.
Часть третья: роль политиков в развязывании конфликта. Роль политиков видится информантами в провоцировании конфликта. Переселенка из Баку вспоминает: «Как Старовойтова выступит по телевизору, так хоть на работу не ходи» (10). В числе других виновников бакинских событий называются Е. Бонер, А. Лебедь, русские солдаты и политический обозреватель «младший Боровик». Настойчиво звучит мотив «рыба гниет с головы». Новые политические фигуры, рассчитывавшие привлечь на свою сторону «демократические силы» союзных республик, оказали последним поддержку и упорно отказывались понять, что эти местные демократы попросту националисты. Национализм регионального демократического «движения снизу» прямо противоречил новой риторике столичного официоза, и потому его как бы не было.
Часть четвертая: первые проявления и эскалация конфликта. «На Октябрьской улице мечеть стали строить!» — восклицает переселенка из Грозного, указывая нам на недвусмысленный и даже вызывающий символ перемен. И ее подруга добавляет: «Да, уже ощущался мусульманский дух в небе, нагнеталась обстановка, это стало заметно» (13). «Мусульманский дух в небе» тут прочитывается однозначно враждебно, как «нагнетание обстановки». И действительно, мы говорили о внезапности перемен, не задаваясь вопросом, в чем состоял их реальный смысл. А он как раз и заключался в резком возрастании значимости конфессиональной и этнической идентичности для социального статуса гражданина, и по сравнению с этим все остальные перемены в республиках для многих оказались просто за скобками происходящего. Новый политический процесс приобрел значение националистического, ни о каких демократических преобразованиях наши информанты даже не упоминают. Они говорят о другом. «Нас не били, в нас не стреляли, но на бытовом уровне нас унижали», — рассказывает Татьяна Ивановна, переселенка из Закарпатья, и ее муж добавляет: «Стекла били, двери поджигали». Татьяна Ивановна поясняет: «Могли позвонить в три часа ночи и сказать: вам не пора уезжать? Вы хотите квартиру продать, вы нам ее так оставите» (11). М. С. Романова продолжает ту же тему, рассказывая о таджикских событиях: «...в этом Ленинабаде, в Каракуле — везде. Это у нас вот в поселке (Адрасман. — Авт.) как-то не очень можно было там, туда не очень-то и полезут, а вот там — да. Там все... там такое творилось — ужас вообще: и убивали, и резали, я ж говорю, даже таджичек, если она идет уже оголенная, так нужно было ее бритвой порезать, чтоб она не оголялась...» (12). Все это опять воспринималось как знак, как начало далеко идущей тенденции. На деле угрозы и устрашающие преступления не стали началом массовых убийств: повсюду, за исключением Баку и Чечни, представляющих совершенно особые случаи, они так и остались предупреждением о несостоявшейся волне насилия. (Пусть на Октябрьской улице построили мечеть, но в результате город не стал, вопреки ожиданиям, одной большой мечетью, где «мусульманский дух» диктует каждое слово.) Зато они сыграли другую роль: сформировали катастрофические ожидания «других русских», подтолкнувшие их к массовой эмиграции в Россию.
Часть пятая: мотив расставания с родиной. Его появление и интенсивность зависели от значимости покидаемого места. Иногда мотив расставания достигал острейшего драматизма: «...там реву столько было. Все время ревели. Прощались, потому что мы прожили-то как одна семья 20 лет» (12). Иногда же он вовсе отсутствовал в рассказах переселенцев. Понятие места — особенное для переселенца; опыт миграции, о котором пойдет речь ниже, отдаляет переселенца от всего того, чем оно наполнено. Ни местный комплекс культурных традиций, ни принадлежность к региональному сообществу, ни те исторические рассказы, в которых артикулируется особая значимость места на мировой карте и в мировой истории, как правило, не столь важны для переселенца, как для оседлого местного жителя. Но все-таки любой, сколь угодно «чужой», регион за долгие годы жизни в нем становился домом, и ностальгия у большинства «других русских» вошла в набор повседневных переживаний. Заметим кстати, что женщине, которой принадлежит приведенная выше фраза, было отнюдь не 20 лет, когда она расставалась с «родным» поселком. Строго говоря, поселок и не был родным, так как родилась она в другом месте. Просто он как-то незаметно стал дорог ей за годы, прожитые в нем, и это характерно для отношения «других русских» к регионам выезда. Не составляют исключения и те из них, кто родился и вырос в таких регионах. Когда покинутый город или поселок был местом рождения самих переселенцев, а то и их отцов, дедов и прадедов, он все равно не был вполне своим. Те, кто действительно считали его своим, знали местный язык, работали на местном предприятии, при наступлении экономического кризиса делали запасы и иным образом обнаруживали установку на поддержание неразрывной связи с этим местом. Информант, чье прощание с родными местами проходило так драматично, равно как и ее дети и русские земляки, выбирали иные стратегии. Вообще в социальной карьере информанта, реконструируемой по ее воспоминаниям, каждый пункт проживания, в том числе и последний, были местами вынужденного пребывания, такими, например, как место работы. Поэтому приведенная выше цитата описывает прощание с местом работы, самой работой и образом жизни, сложившимся вокруг работы. Непосредственно же регион к прощанию с «ревом» имел самое малое отношение.
Часть шестая: паника и изгнание. М. С. Романова, рассказывает: «Сам переезд — это было что-то ужасное. Там вообще кошмар какой-то был. Мы еле-еле в этот вагон прыгнули. Я... я даже удивляюсь: как мы в него, это самое, залезли. Там... Во-первых, там выталкивали. Никого не это самое... Не... Уже, нас знаешь, вот так насильно прям туда втолкнули. Ну вот, «Абиджан (так у рассказчицы. — Авт.) — Москва» поезд... И там на этой... на станции, Ленинабад, там вообще они даже не хотели остановку делать. Люди вообще, знаешь, вот как паломничество какое-то, все уезжали... Все плацкарты, окна выбиты: камни летели постоянно в поезда, пока мы ехали, мы укрывались матрасами. И вот мы до Москвы пока ехали, там было... там что-то такое было: холодрыга, не отапливается вагон вообще. Ну, в этом вагоне, наверное, через одно было все выбито, там где не выбито — там вот просто грелись. Матрацем мы укрывались... А в дороге и разворовывали, и убивали, и там чего только не было» (12). Также М. С. Романова вспоминала, что во время описываемого ею панического бегства русских из Таджикистана (с лета 1992 до конца 1993 года) некоторые из уезжавших вывозили по нескольку холодильников, стиральных машин и т. п. Для этого арендовали целую платформу, с ней и ехали. Разумеется, мгновенно возник острейший дефицит контейнеров, цены на них многократно возросли, иногда за контейнер приходилось отдавать квартиру. Да и то, если удавалось — ведь контейнеров часто попросту не было, и в очереди за ними можно было просидеть не одну неделю. Спекуляция контейнерами только усугубляла ситуацию, провоцируя отъезжающих интерпретировать ее именно как этническую дискриминацию: спекулировали главным образом таджики, которые не были вовлечены в поток панического бегства в Россию.
Часть седьмая: последствия конфликта. Здесь прежде всего стоит привести описания современного состояния покинутых регионов. Таковы, в частности, описания разрухи в поселке Адрасман на севере Таджикистана, на конец 80-х годов преимущественно русском по составу его 15-тысячного населения: «Вот действительно, это самое, когда там мы жили — было страшно. Было страшно оставаться там, потому что как вот наши сейчас вот остались, да и привыкли может быть. Может быть потому, что некуда ехать... вот некоторые там живут. Ну вот я так знаю, семей 10 осталось, некуда ехать, но кому было куда ехать — все уехали. Страшно было конечно там оставаться, неизвестно же, что они будут творить» (12). Аналогичны впечатления переселенки из г. Рустави в Грузии. Практически все «русские», в том числе и смешанные семьи, покинули город, распродав за бесценок свои квартиры грузинам, жившим в сельской местности. Город, по словам информанта, чьи родители продолжают там жить, опустел, очень велика безработица, а те, кто купил квартиры у отъезжавших русских, в этих квартирах не живут, поскольку «только огород кормит» (7).
По поводу русских, оставшихся в Средней Азии и Закавказье, мнение переселенцев однозначно: они обречены страдать от унижений и, как говорят в таких случаях, влачить жалкое существование. Вот одно из таких свидетельств: «Кто сейчас в Азербайджане русские остались? Я вам скажу кто — кому некуда и не на что выезжать, вот они уже в полуподвале, полубомжатник какой-то — образ жизни ведут... просто зря, ты не знаешь...» (10). Что такое «полубомжатник»? Предложим такое толкование: перед нами эмоциональная вербализация оценки образа жизни тех бывших земляков, соседей, co-ethnics , которые пережили те же трудности, что и переселенцы, но решили остаться или не решились уехать. Своим пребыванием там они подвергают сомнению неизбежность эмиграции «других русских»; ну, а уж преуспеяние оставшихся означало бы для уехавших не просто сомнение в правильности сделанного выбора, а его полное опровержение.
Стоит отметить и интонацию, сопровождающую описания разрухи и запустения, царящих в оставленных переселенцами регионах: «поделом»...
«Мы там жили...»
Свободный поток воспоминаний сравнительно редко встречается у данной категории информантов. Их прошлое перегружено ценностными значениями, оно — аргумент, а не индифферентная цепь событий; соответственно рассказ о нем — скорее некое ценностное утверждение, чем спокойное повествование. Приведем наиболее характерные секвенции, описывающие быт и работу в «прошлой жизни» переселенцев. Рассказ о работе обычно перенасыщен технологическими деталями и выглядит примерно так: «Фабрика стояла на уровне две тысячи, ну, наверное, тысяча восемьсот....Мы свинцовую руду добывали. Свинцово-цинковый комбинат и низковольтная аппаратура, ну чем мы там занимались. Работали с цианидами. На флотации я работала. Так вот руду шахтеры добывали, привозили на фабрику, там она мололась, потом поступала на флотацию, извлекала вот эти вот, самые вот эти... благородные: свинец, висмут, все и вот этой вот пенкой и этими лопаточками так вот все поднималось. И потом вот это все загружалось... загружалось в контейнера такие, и отправляли вот уже на завод свинцовый, в Чимкент. Вот мы все время туда отправляли свой концентрат» (12).
Далее одна из секвенций в жанре классической «семейной истории», подсказанной мужем женщины, с которой велась беседа: «Отец, чтобы показать, как хорошо они жили, говорит: я мог слетать в Ленинград подстригаться в парикмахерской (смеется)... Он утром, когда пришел на работу, в обед звонит маме, а она говорит: а откуда ты? А я, говорит, в парикмахерской. Ну, че ты звонишь тогда? Ну я ж в Ленинграде, я только вечером прилечу. А вечером прилетает: ты че летал? Ну, подстригаться... (смеется) Да у него... у меня папа такой, он мог выкинуть вот такое. Ну, была возможность, скажем. Это... это не било по карману, не было проблемы съездить» (8).
Еще одна история — рассказ о женитьбе. В нем присутствуют как осуждение чеченского традиционализма, так и другие сугубо индивидуальные коннотации. «У меня рядом со мной, мы жили по соседству — замминистр по бытовому обслуживанию города был. Он там весь из себя, в Москве учился, один институт там, и докторскую защитил, и еще что-то... Приехал, он один был в семье, а остальные все были женщины, и надо было его женить, ну и естественно он там встречался и очень любил одну девушку русскую, но нет, но нельзя, а он говорит: «не могу». Отца нет, мать не могу расстраивать, а мы очень хорошо общались и по-соседски. И вот он женился все-таки, ну на самой красивой из шикарного знатного рода (что само по себе недвусмысленно подразумевает чеченское происхождение. — Авт.), на семнадцатилетней, молодой совсем девушке. И вот через года два, она была очень красивая девушка, еду я в трамвае на рынок и она рядом со мной. И тут я замечаю, за поручень держусь и рядом рука — поднимаю глаза, это стоит она, его жена — огрубевшая рука, вся в трещинах, ну и никакого там маникюра и речи быть не может, и все. А дома стоит, уже по тем годам, «Мерседес», вторая машина «Жигули», то есть она не может получить права — съездить на рынок...» (13).
Все три отобранные и представленные здесь истории — о фабрике, о стрижке в Ленинграде и о женитьбе — иллюстрируют не только образ жизни «других русских» за пределами России, но и передают ту интонацию, которая появляется в беседах с информантами всякий раз, когда воспоминания, вопреки происшедшей драме, возвращают их в реальность прошлого. Это интонация спокойного достоинства, в ней нет той боли, которая звучит постоянным фоном в рассказах о конфликте, переезде и жизни в Петербурге.
Семейное окружение
Семья служила для многих «других русских» адаптирующим буфером уже в тех республиках, из которых им пришлось впоследствии уехать. «Мы жили, может быть это было минусом, не то, что воспитания, но минусом детства. Мы жили... Когда мы жили в Рустави — у нас там не было родственников, мы жили семьей. У нас никого не было родственников, даже дальних, в этом городе. Мы жили изолированно. И какой-то отпечаток это все-таки отложило, я вот сейчас вспоминаю. У нас были друзья. Нам родственников заменили друзья. А так, чтобы нам было можно ходить в гости к родственникам — к бабушкам, тетям и дядям, — такого не было. Мы жили каким-то своим миром, таким тесным, дружным, я это точно помню. Одна бабушка жила в Батуми, другая бабушка жила в Чечне, в Грозном. И каждый год, несмотря ни на что, мы ездили сначала к одной бабушке, потом к другой — каждый год» (7).
У более успешно интегрированных семей мог существовать и еще один внешний буфер — деловые друзья, или даже то, что именуется «связями». Порой такая стратегия интеграции через буферное окружение позволяла приобрести весьма значительный социальный капитал. «И вот директор... папин знакомый, он был как раз заведую- щим складов, товаров промышленных, которые одежда, которые приходили вот откуда-то из Москвы, и там из заграницы были, у нас в туфлях вообще не было проблем. Папа привозил ящик туфлей — красные, сиреневые, чёрных несколько пар, чтоб мама выбрала, какие туфли она там хочет, и даже для... тебе дали домой коробку померить туфлей. Тогда еще, такого еще нету, из коробки — выбирали. Ну вот у нас было, вот у меня так и лежат до сих пор эти из Туркмении, то, что мама себе набрала... Ну вот это были друзья, там. Мясо, сосисок не было в городе вообще. Но директор мясокомбината, поскольку он наш был, папин был знакомый, то у нас сосиски были, мы знали, что такое сосиски, другие не знали. Но вообще не было сосисок» (8).
Эта же стратегия в максимально полной мере воспроизводится информантами и здесь, в Петербурге. Исключение составляют лишь те из них, кто по тем или иным причинам отказывается от полноценной интеграции в городской социальный контекст, предпочитая ограничиться задачей необходимой адаптации.
Оппозиции «свои — чужие»
Ксенофобные конструкции не составляют единого дискурса, его приходится выделять. Начнем с цитаты: «Мы как-то жили, не задумывались (над этническими различиями. — Авт. ). Не знаю, может, время было такое легкое, как-то и не нужно было усугубляться там в такие дебри. Мы жили и жили». Сразу за этой секвенцией следует ее характерное логическое продолжение: «Хотя, действительно, были у нас, в основном, в высших учебных заведениях из преподавателей, в основном были ингуши, чеченцев не было, а ингушей много» (13). То есть перемены в межэтнических отношениях не были внезапными, явились прямым продолжением этих отношений. Приведем еще одну иллюстрацию: «Я никогда не была националисткой, но вот помню, что как приехала в Таджикистан в 1951 году, то вот, когда в транспорте, например, на поручне случайно касаешься руки этого, черного, — прямо аж дрожь такая проходит... А так — нет, мы жили дружно» (12).
Среди наших информантов была женщина, привлеченная нами в качестве эксперта по адаптации вынужденных переселенцев в Петербурге. Сама она является статусной вынужденной переселенкой из Баку. В ходе экспертного интервью и в процессе последующего общения она крайне часто пользовалась этнонимами. На вопрос, с чем это связано, она сослалась на то, что так было принято в Баку.
«Нет, ну это же чисто автоматом по имени и фамилии, все равно что-то определяется, когда начинаются какие-либо контакты, как у меня с Ильюшей. То есть, он для меня просто Илья и я ему задаю вопрос: слушай, Илья Смехти, но ты же не похож на азербайджанца? Он говорит: да какой я азербайджанец, у меня мама наполовину, папа наполовину, — вот это как бы само собой выявляется. Или я куда-либо попадаю и говорю, что не знаю ни слова по-армянски. Как ты ни слова, ты разве не армянка? Ну какая я армянка, если у меня мама русская и я выросла в русской семье. То есть, оно все равно, независимо от этого вылезает. У нас это не считалось, как Вам сказать... Это предмет разговоров, но это не носило никогда никакого оттенка национализма, как здесь, вот в чем разница. Понимаете, там это удовлетворялось просто любопытство, не более того» (9). В то же время, хотя у эксперта явно фиксируется отсутствие культурной компоненты этнической идентичности, она утверждает: «Я армянка, я этого не скрываю, а иногда я даже этим бравирую» (там же).
Таким образом, разнообразные конструкции, построенные на жонглировании этнонимами, занимают центральное положение в нарративе, как только внимание информанта отвлекается от презентации конфликта и описания покинутых мест. Наш эксперт рассказывает о своем друге: «У меня был очень хороший друг, который затащил меня на радио к своей маме — у него мама была наполовину еврейка, наполовину армянка, а отец наполовину грузин, наполовину азербайджанец. Кто Илья Смехти? У него осталась азербайджанская фамилия и имя, но его же никоим образом нельзя причислить к азербайджанцу, так же как и меня нельзя назвать армянкой — и такие были в большинстве в Баку» (9).
Далее — о языковых практиках. Реконструкция языковой среды — первый сюжет в этом пункте. Вот свидетельство о Закарпатье. «Я прекрасно помню, как это было: я пришла в 6 «г» класс, украинский. И я говорю: ну что же ребята, что будем делать — я вас буду учить немецкому, а вы меня будете учить украинскому» (11). А вот чеченский сюжет. «Если собираются два человека — они будут говорить только на своем языке. Причем громко, причем не останавливаясь, подошел ли пожилой человек другой нации, русскоязычной, — бесполезно» (13). Характерно, что информант не уточняет, на каком «своем» языке «они будут говорить», полагая само собой разумеющимся, что «свой» — это не «наш» язык, то есть не русский. Еще более любопытна путаница с термином «русскоязычный». В рассказе как бы подчеркнуто, что «человек другой нации» — нерусский (что подразумевается самим указанием на «другую нацию»); однако его родной язык — ведь речь в этой секвенции идет именно о родных языках — все-таки русский, потому и «нация» эта «русскоязычная». Вряд ли информант имеет в виду те этнические группы, которые в повседневном общении полностью перешли на русский язык и утратили собственный. Нет, здесь, видимо, подразумеваются так называемые нетитульные «националы» 11, в данном случае — нечеченцы (хотя и это утверждать трудно).
Резюмировать эту тему можно цитатой из экспертного интервью: «...дух такого интернационализма (был в Баку. — Авт. ), во-вторых, чисто кавказского гостеприимства, я не знаю, дружбы какой-то» (9). К этому любопытному сочетанию «духа интернационализма» с «кавказским гостеприимством» прибавим для контраста «мусульманский дух в небе» — и получим практически всю полноту противоречивой картины «духов» этнофобии, отчасти унаследованной от советских времен, отчасти развившейся в 90-е годы. Противоречивость только подчеркивается другой стороной восприятия покинутой среды — тем, что одна из наших информантов назвала «комбинацией наций»: «Дело в том, что, понимаешь, как... ну, как объяснить? Ну, чистых русских — мы все записаны русскими — чистых русских как бы... не было, по сути своей. Кто-то мама, кто-то папа. А кем были? Комбинация наций. Ну, в общем они считались русскими, русскоязычными, так скажем...» (8).
В данном случае речь идет об установках и восприятиях тех, кому выпало родиться «среди чужих». Переселенка из Грозного рассказывает: «Мы там родились и дети наши там родились, родители наши тоже. Я родилась там уже пятое поколение, сын — шестое поколение, все наши предки там похоронены и тем не менее мы... оказалось, что Кавказ — это не ваш, езжайте в свою Россию» (13). И она же добавляет: «Естественно Родина — там, здесь ничего и близко нет». В случае, когда оставленное место не было местом рождения, отношения с памятью о нем складываются намного проще. Вот, например, одно из свидетельств переселенки из западной Украины, псковской уроженки: «Я не знаю, как по всей Украине, но на западной Украине — я скажу вам, все дипломы — практически купленные, учителями и врачами и прочими. Там все покупают» (11). Легкое пренебрежение прочитывается и в ее рассказе о Монголии, где ей довелось побывать, и об Украине. С Германией, где она прожила пять лет, — несколько иначе: говоря о возможности остаться там «на пээмже», она априорно отождествляет ее с продажностью, погоней за «легкими деньгами»
и проч., то есть говорит пренебрежительно не о самой стране, а об оставшихся в ней соотечественниках. Видимо, частые переезды побуждали ее дистанцироваться от каждого локального сообщества и культуры региона, где приходилось жить.
При встрече с петербургской ксенофобией, тонко различающей множество оттенков культурной, этнической и земляческой идентичности, — и не просто отличающей «своих» от «чужих», но и ранжирующей тех и других, — переселенцы, вопреки их ожиданиям, заняли место именно среди «чужих». Практически сразу же по приезде они услышали в свой адрес: «Вас здесь никто не ждал». Этот лейтмотив зазвучал в обыденном сознании горожан и оказался встроенным в профессиональные установки паспортисток, школьных учителей, мелких чиновников и т. п.
Скорее всего, переселенцы никак не ожидали такого приема, но отчасти были уже к нему подготовлены опытом постсоветской русофобии в новых независимых государствах. Страх перед «чужими» говорил на знакомом им языке, на языке четкого различения «своих» и «чужих», нередко позволяющем каждое «мы» и «они» просеять через сито тончайших градаций. Мигранты умеют включиться в петербургский ксенофобный дискурс — улавливать эти градации, вести разговор на этом языке. И подчас такое включение в роли жертв почти не вызывает у них протеста. Так, наш эксперт рассказывает о ксенофобии чиновничества относительно сдержанно, как о неизбежности: «Вся наша жизнь, через что мы прошли — это просто жизнь на Марсе. И объяснять это бесполезно, понимаете» (9).
«России мы не нужны!»
Эту тему можно открыть словами жены офицера, у которой, по сравнению со всеми другими информантами, опыт миграции наиболее богат. «Да конечно, я никогда не ожидала, что вот в конце службы (мужа, отставного офицера. — Авт.), отдав ей все силы, всю жизнь отдав Советскому Союзу, нашей стране, — наша страна так отвернется. Мы же не сами лезли. Не мы же виноваты в том, что вот нет у меня квартиры. Если бы мой муж был гражданским, а не военным, у нас было бы все, а так — нет ничего» (11). Мотив «России мы не нужны» типичен практически для всех вынужденных переселенцев. Он органично встраивается в те сюжеты, которые были описаны в рассказе об эмиграции, и центральный для рассказа лейтмотив неспра- ведливости лишь резюмируется этой сентенцией. Однако отметим одну особенность: информанты в возрасте до 30 лет практически не оперируют конструктами типа «несправедливость со стороны России». Во-первых, виновниками всего происшедшего они считают исключительно внешние политические силы, конкретно — политическое руководство тех стран, откуда им пришлось уехать. Во-вторых, рационализация своей миграции постфактум приводит их к несколько иной интерпретации переезда: они уехали из отсталого в экономическом отношении региона в регион более развитый и тем самым просто повысили свои жизненные шансы (Lebenschancen М. Вебера). И наконец, они менее политизированы, чем старшее поколение, и попросту не оперируют такими категориями, как «Россия», «российское правительство» и т. п.
Переосмысление прошлого
Как уже отмечалось, свободный поток воспоминаний оказался не самым частым явлением в беседах с информантами. Причиной этому послужила не только крайняя тяжесть пережитых событий, но и особая роль, даже особое состояние самих воспоминаний. Как правило, миграция разделила жизнь переселенцев на до и после, их биография прошла точку перелома, несравнимо более значительную, чем та, что была пройдена биографиями добровольных мигрантов советского времени. В силу этого фундаментального обстоятельства вынужденные переселенцы в полном смысле слова начинают свою жизнь заново. Это не означает, что перед ними открываются какие-то новые перспективы — но вот пройденный путь приобретает новый смысл, биография проходит полную реконструкцию. Если раньше N. имела биографию, скажем, ткачихи или учительницы, то теперь у нее биография вынужденной переселенки, то есть не просто другая биография, а другая судьба. Фактически такое переосмысление биографических событий и обстоятельств означает их реинтернализацию — они как бы заново усваиваются индивидом. К сожалению, мы не можем сравнить биографическое повествование одних и тех же информантов, сделанное до и после миграции. Но и логика понимания вынужденной миграции как ключевой точки перелома биографической траектории, и следование веберианской традиции, согласно которой социальное действие имеет то значение, каким его наделяет само действующее лицо, — все это застав- ляет утверждать, что, будь сравнение возможно, мы получили бы совершенно разные биографии, хотя в них почти наверняка были бы представлены одни и те же факты.
Итак, судьба вынужденного переселенца постфактум получает новую внутреннюю логику, и информанты излагают свои воспоминания уже в соответствии с этой логикой. Однако имплицитное переосмысление прошлого как бы остается за скобками, и мы можем угадывать его лишь по его результатам — по тому, как структурированы воспоминания, по четкости их изложения, резкости переключения с описаний на обобщения и обратно. Словом, по всему тому, что отличает реконструированный нарратив от «первичного», конструируемого, как это чаще всего бывает, параллельно вербализации.
Вот как переселенки из Грозного рассказывают об отошедших для них в прошлое «нравах и обычаях»: «Да, там мужчина зашел — обязательно встать нужно... Там есть такое, обязательно. Вот например, вечером гости пришли и засиделись, обувь — у нас так положено — моешь вечером, чтобы она чистая была к утру, всем подряд. Всем, кто есть в этот момент дома, всем перемыта обувь — это обязательно. Вот такое было положено и никак иначе. Это да» (13).
Обнаруживая противоречия в нарративе, мы ни в коем случае не пытались поймать на нем рассказчика. Наличие внутренних противоречий скорее свидетельствует о значимости данной темы для информанта. Впрочем, иногда противоречия объясняются и несколько проще. Например, информант из Закарпатья рассказывает о трудностях преподавания на украинском языке детям, его не знающим. На вопрос исследователя, не трудно ли детям так обучаться, она естественно — уверенно и однозначно — отвечает: «Очень трудно». Но затем, отойдя от сюжета о насильственной реконструкции языковой среды, столь же естественно признает: «Ничего, понимают. Ведь дети — они быстро воспринимают язык, так сказать» (11). Здесь она уже выступает не в роли русской, а в роли учительницы иностранного языка. А иная позиция — это и иная логика, иная правда 12.
В следующей секвенции недостижимость и обаяние прошлого предстают наиболее ярко (хотя при этом мотив ностальгии появлялся реже, чем можно было бы ожидать): «...нам было хорошо, хорошо. Если бы то время вернулось, я бы оттуда не выехала. Такого больше никогда не будет. Вот Галка пишет же, что фрукты, овощи уже дорогие стали. Так ведь все было за бесплатно» (12). Видно, что ностальгия по родным местам неразрывно связана с ностальгией по временам, когда «все было за бесплатно». Мы не анализируем этот мотив подробно, поскольку он лишь изредка проскальзывает в ролевом нарративе и, по-видимому, не связан с ролью «другого русского».
Значение места
Как уже отмечалось, значимость места для вынужденного переселенца зависит от прежнего миграционного опыта. Чем он больше, тем значимость меньше и легче адаптация к новому месту. «Мы столько переезжали с мужем, я так посчитала — мы раз 18 переезжали... Я еще такой человек, очень коммуникабельный, я очень быстро вхожу в контакт. Мне очень много пришлось переехать, да? Я везде сразу шла в другую школу и она становилась родной. Я пришла в эту школу — она мне стала родной, я уже третий год работаю в этой школе» (11).
Другим фактором дистанцирования мигранта от его нового культурного ландшафта является обстоятельство, присутствующее практически во всех исследованных случаях, — выбор конечного пункта миграции вне всякой связи с какими-либо его особыми качествами. Так, переселенка из поселка Адрасман выбрала Петербург только на том основании, что здесь жила ее дочь. Сам город, с его значимой для коренных петербуржцев историко-культурной маркировкой, специфической притягательностью для нее не обладал. Такие же приоритеты и у дочери информанта: «И вообще, мне кажется, где больше родственников, там лучше жить» (12) Еще живя в Таджикистане, она знала, что, окончив там школу, постарается уехать из республики, как и большинство других выпускников. И действительно уехала «учиться на врача» туда, где жил ее дядя. Но Ленинград/Петер-бург так и остался для нее случайным местом. В лучшем случае любовь к Петербургу воспринимается как некая обязанность «культурного человека». И тогда она демонстрируется формальными признаками и наличием петербургской родни: «У меня пройдены все музеи, я очень люблю Питер, все родственники (мои живут. — Авт. ) здесь (11).
Стратегии обустройства
В ситуации острого экономического кризиса, тотального товарного дефицита в среднеазиатских и закавказских республиках решение о переезде в другой регион было существенно облегчено тем простым обстоятельством, что «терять-то все равно нечего». Однако до кризиса уровень жизни большинства вынужденных переселенцев был выше на старом месте (месте выезда), и существенно выше, чем на новом месте. «Ну, конечно, потеряли, естественно... Я в своем профессиональном уровне конечно потеряла, так как не могу повысить теперь себе квалификацию, квалификация стоит минимально 600 долларов. Поэтому конечно нет, если я как работала раньше, и в салоны красоты направляли нас, и все это было можно себе позволить, то теперь нет. Сейчас сам выгребайся, как сам можешь, как сам знаешь» (13). Разумеется, информант пытается найти объяснение этому: «Я считаю, просто мы попали на местожительство в таком маленьком городе (Печоры, Псковская область. — Авт.), после большого. Ну, где здесь устроишься? Частные уроки — здесь это не реально. А поэтому приходится...» (13). Так Печоры для информанта становятся лишь «трамплином»: только дороговизна квартир препятствует ее переезду в Псков, а дальше — в Петербург либо, по обстоятельствам, в Москву.
Вряд ли тяжесть проблем обустройства на новом месте можно проиллюстрировать более выразительно, чем это происходит в рассказе нашего информанта из Закарпатья о гибели сына. «А то, что сын погиб здесь — я считаю, что это произошло из-за того, что мы так переехали. Ну что, мальчишка молодой, ему было, когда мы сюда переехали, всего восемнадцать. Там он получил права, в 1994. Он получил права, а здесь сказали, они не действительны, вы с другой страны... Ну ладно, закончил здесь, другие получил, ну а как у нас сейчас, на работу никуда не устроиться молодым, правда? Никуда. Приходишь, у него была мечта: мам, никем, только водителем буду, все в «Трансавто», но надо с чего-то начинать, правда? Приходишь туда в такси, ну как это... Да, в парк, требуется, читаем — требуется, приходим — три года стажа. Ну, где ему взять три года стажа, ведь надо с чего-то начинать. И вот так мыкался-мыкался, купили ему машину, какую-то развалюху, я говорю, давай хоть извозом как-то занимайся, ну что-то хоть себе зарабатывай, ну вот. Но это тоже, сколько заработаешь — проешь, и машина съест очень много. Или надо, чтобы было 21 год, а ему тогда еще не было. Ну и что, пошел он подрабатывать в ночной клуб «Тоннель» — что-то подделать, что скажут. Ну, а это ясно, с чем связано. Может быть, было бы так: работа своя, своя квартира — мы были так не устроены — он молодой, я понимаю его, а мы трое на двенадцати метрах. Не привести никого... сын у меня погиб, по глупости. Как погибает сейчас вся молодежь, от героина» (11).
Мы не будем здесь останавливаться на описании характера и специфики ресурса государственной поддержки вынужденных переселенцев, так как эта тема требует особого внимания. Скажем лишь, что большинство вынужденных переселенцев, особенно из числа «нестатусных», настроены более чем скептически в отношении эффективности работы федерального органа, и после реорганизации сохраняющего на бытовом уровне название «миграционная служба». По крайней мере, всякий раз на вопрос, «обращались ли Вы в миграционную службу», следовал недоуменный ответ: «А зачем?». По словам одного из информантов, «вообще, миграционная служба очень интересная — там все замалчивают. Если что-то надо узнать, то ты должен туда ходить и обивать там пороги» (13).
Непроговоренное
Непроговоренное не менее существенно для понимания биографической ситуации «других русских», чем артикулированное. Отчасти импликации являются результатом того, что отдельные темы так или иначе табуированы. Например, тема «“Националы” и “другие русские” в сетях “чужаков”». По свидетельствам некоторых информантов, а также по нашим собственным наблюдениям, зафиксированным в полевом дневнике включенного наблюдения, закавказские земляческие сети включают как представителей титульных национальностей, так и «других русских». Таковы, в частности, грузинские сети. И тех, и других, помимо землячества, объединяет их маргинальность : они неинтегрированы в принимающее общество и стигматизированы как иногородние. Этот дискурс маргинальности вплотную смыкается с дискурсом ксенофобии, и с их помощью артикулируется коллективная идентичность «других русских» — в категориях землячества и этничности, реже родства, а также через апелляцию к социальной и культурной обособленности и отчужденности. Все эти обстоятельства необходимо учитывать при интерпретации любых описаний постмиграционной биографической ситуации вынужденных переселенцев.
Дискурс маргинальности выражен лишь в той части, в какой речь идет об этнической стигматизации «других русских» в «национальных» республиках. И здесь особого внимания заслуживает тема угрозы изнасилования. Символическое значение оскорбления женщины исследовалось в других предметных областях и общеизвестно. Мы можем лишь констатировать, что, по мнению наших информантов, практики такого рода в полной мере используются почти во всех тех регионах, откуда они эмигрировали. О том, как это происходило в Азербайджане, рассказывается так: «Девушек раздевали догола и заставляли... Там парень идет и она должна перед ним идти и танцевать голая... по дороге» (10). А свидетельства переселенки из Грузии, успевшей побывать в Чечне, которую она и описывает в следующей секвенции, видимо, вполне могли бы быть отнесены и к другим регионам: «...отношение чеченских мужчин к русским девушкам, это отдельный разговор. Уважения не было, никакого вообще, вот это меня больше всего возмущало, а мне объясняли, что здесь неудивительно, если они сами себя так ведут. Для меня, например, это не объяснение как ведет себя женщина, что с ней надо так обращаться» (7).
* **
В заключение описания лейтмотивов, которые с большей или меньшей полнотой вербализуются информантами при ролевой презентации себя как «других русских», следует заметить следующее. Взятый в его культурном аспекте, феномен «других русских» имеет коннотации в ролевом сценарии, но не оформляется как отдельная составляющая этого сценария. Речь не идет о той очевидной исторической роли, которую сыграли русские переселенцы в культурноэкономическом контексте республик бывшего СССР; мы имеем в виду другое — специфическую культурную идентичность или локальную русскость как оппозицию российской русскости . Некоторые работы, например Н. П. Космарской, подтверждают наличие социально-психологического и социокультурного барьера, образующегося между переселенцами и принимающим населением вследствие «особости менталитета азиатских русских» 13. Имплицитно тема «азиатской русскости» прослеживается в ряде случаев и в нашем исследовании; однако набор признаков или качеств такой русскости, выявляемый, когда задается прямой вопрос, указывает не столько на ментальные отличия, сколько на хорошее знакомство «других русских» со своеобразным «этическим кодексом азиатской культуры», не свойственным, по их мнению, той русской культуре, с которой их знакомит российский контекст.
Мы надеемся, что следующий этап реализации проекта позволит дополнить исследование материалами для изучения феномена локальной русскости. А также — описанием всего спектра миграционных стратегий, земляческих сетей «других русских», их экономических и коммуникативных практик.
Список литературы «Другие русские»: роль в историческом сюжете
- Зайончковская Ж. А. 1996: Русский вопрос//Миграция в России, 1996. № 1. С. 7-14;
- Зайончковская Ж. А. Вынужденные мигранты из стран СНГ и Балтии в России//Мир России: Социология. Этнология. Культурология, 1997. № 4. С. 25-31
- Графова Л. Новосел -кладбище надежд или островок цивилизации в глубинке России?//Человек и закон, 1997. № 4. С. 12-17
- Беженцы. Отв. ред. А. Г. Здравомыслов. М., 1993
- Кайзер М. Русские как меньшинство в центральной Азии//Журнал социологии и социальной антропологии, 1998. Т. 1. № 3. С. 55-73.
- Зайончковская Ж. А. Внутренняя миграция в России и в СССР в XX веке как отражение социальной модернизации//Мир России, 1999. № 4. С. 33.
- Арендт X. Истоки тоталитаризма. М., 1996. С. 372-389
- Витковская Г. С. 1998: Направленное расселение вынужденных мигрантов: социальная цена прописки//Вынужденные мигранты и государство. Под ред. В. А. Тишкова. М., Ин-т этнологии и антропологии РАН, 1998. С. 240, 249.
- Тишков В.А. (отв. ред.). Вынужденные мигранты: интеграция и возвращение. М., Ин-т этнологии и антропологии РАН, 1997.
- Parsons Т. The Social System. London, 1964. P. 38-40, 114.
- Goffman E. Wiralle spielenTheater, Die Selbstpresentation im Alltag. Mimchen, 1969. S. 19-23.
- Космарская Н. П. Хотят ли русские в Россию? (Сдвиги в миграционной ситуации и положении русскоязычного населения Киргизии)//В движении добровольном и вынужденном. Постсоветские миграции в Евразии. Под ред. А. Р. Вяткина, Н. П. Космарской, С. А. Панарина. Москва, 1999. С. 204-205.