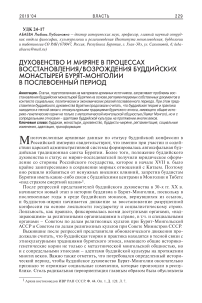Духовенство и миряне в процессах восстановления/возрождения буддийских монастырей Бурят-Монголии в послевоенный период
Автор: Абаева Любовь Лубсановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья, подготовленная на материале архивных источников, затрагивает проблемы восстановления буддийских монастырей Бурятии на основе регламентируемых собственных документов в контексте социальных, политических и экономических реалий послевоенного периода. При этом представители буддийского духовенства Бурятии продолжали считать, что буддийская теория и практика находится в тесной связи с этнокультурными традициями бурятского этноса, имеющего общие историко-генетические корни не только с метаэтнической монгольской общностью (Хамаг Монгол), но и с сопредельными этносами - адептами буддийской культуры на протяжении многих веков.
Буддизм, монастыри, духовенство, буддисты-миряне, регламентация, социальные изменения, адаптация, трансформация
Короткий адрес: https://sciup.org/170170980
IDR: 170170980 | УДК: 24-17 | DOI: 10.31171/vlast.v27i4.6634
Текст научной статьи Духовенство и миряне в процессах восстановления/возрождения буддийских монастырей Бурят-Монголии в послевоенный период
М ногочисленные архивные данные по статусу буддийской конфессии в Российской империи свидетельствуют, что именно при участии и содействии царской административной системы формировалась автокефальная буддийская традиционная cангха Бурятии. Более того, положение буддийского духовенства и статус ее мирян-последователей получили юридическое оформление со стороны Российского государства, которое в начале ХVII в. было крайне заинтересовано в сохранении мирных отношений с Китаем. Поэтому оно решило избавиться от ненужных внешних влияний, запретив буддистам Бурятии иметь какие-либо связи с буддийскими центрами в Монголии и Тибете «под страхом смертной казни»1.
После репрессий представителей буддийского духовенства в 30-х гг. ХХ в. начинается новый этап в истории буддизма в Бурят-Монголии, поскольку в послевоенные годы в среде буддийских монахов, вернувшихся из ссылок, и буддистов-мирян начинается движение за восстановление разрушенной конфессии на основе лояльности государству и социалистическому строю. Лояльность, как правило, фиксировалась всеми доступными органами, «надзирающими» за религиозными организациями в стране, в т.ч. и специальными органами – Советом по делам религиозных культов при Бурят-Монгольской АССР и Советом по делам религиозных культов при Совете Министров СССР.
Выжившие после репрессий представители обновленческого движения продолжали считать, что буддийская теория и практика находятся в тесной связи с этнокультурными традициями бурятского этноса, имеющего общие историкогенетические корни не только с метаэтнической монгольской общностью, но и с сопредельными этносами – адептами буддийской культуры на протяжении многих веков. Важно также отметить, что потребовался определенный исторический период, чтобы буддийское духовенство Бурят-Монголии окончательно признало те огромные социальные изменения, которые произошли в республике. Столь радикальная переориентация главным образом была обусловлена изменившимся мировоззрением мирян – адептов буддизма в годы Великой Отечественной войны. Любая другая социокультурная ориентация уже не получила бы поддержки со стороны мирян.
Будучи достаточно развитыми социальными институтами в дореволюционной Бурятии, буддийские монастыри играли огромную роль в жизни бурятского народа, являясь своеобразным регулятором его политической, социальной и культурной жизни. Такие составные части духовной культуры бурятского этноса, как литература и искусство, нормы поведения, привычки и традиции в какой-то степени несли на себе печать религиозных знаний и практик. Поэтому не удивительно, что даже в повседневном народном сознании, представлениях и мировосприятии буддизм ассоциировался с их этнической идентификацией и конфессиональной компетентностью. Буддийские монастыри исторически были органичным компонентом жизнедеятельности бурят. Являясь практически центром всей социальной и культурной жизни бурят, исполняя интегративные и коммуникативные функции, монастыри представляли собой символ единства всех бурят, являлись носителями их идентичности и маркерами этнической культуры. На сохранение представлений о тождестве этнического и религиозного, несомненно, оказал влияние и тот факт, что буряты, как и многие другие народы, вошедшие в состав СССР из патриархального традиционного социума, оказались в других социальных, политических и культурных условиях. Вековая традиция передачи религиозных знаний и практик, как и проявление этнической идентичности в религиозных формах, обусловили сложный процесс дифференциации этнического поведения от религиозных практик, а элементы секуляризации в этом контексте не были усвоены. Известно, что благодаря своей религиозно-философской специфике учение буддизма и его многочисленные практики глубже всего проникли в сферу семейно-бытовых норм и повседневных отношений бурят. Более того, шаманские и шаманистические традиции, инкорпорированные буддизмом, которые на протяжении некоторого периода продолжали отправляться некоторыми родами бурят, по истечении времени достигли органической связи с природным циклом существования кочевого народа, тесно переплетаясь со всеми сторонами старого традиционного общественного и бытового уклада. Поэтому процесс отделения этнического от религиозного в тот период представляется нам достаточно сложным и не единовременным процессом, изучение которого требует не только политического такта, но и глубоких знаний этнокультурных традиций и социальных стратегий бурят, а также их этнопсихологических особенностей. Окончательная позиция буддийского духовенства по отношению к новому социальному статусу оформилась лишь в послевоенные годы, хотя попытки обновленческих реформ предпринимались задолго до этого. Их вовлеченность в социальнополитическую сферу республики характеризируется конкретными фактами. Летом 1944 г. представители буддийского духовенства во главе с дид-хамбо ламой (заместителем председателя Центрального духовного совета буддистов Восточной Сибири, избранного на обновленческом съезде в 1925 г.) Хайдапом Галсановым выпустили патриотическое воззвание к буддистам на бурятском языке с призывом о помощи советской Родине и Красной армии. Всего за годы войны от буддийских монахов поступили пожертвования на сумму 0,5 млн руб. Ламы Х. Галсанов и Ч. Тасорунов за персональные взносы в Фонд обороны дважды получили благодарственные телеграммы от И.В. Сталина1.
В 1946 г. по инициативе группы мирян-буддистов и группы буддийских монахов, которую возглавили члены бывшего Центрального духовного совета буд- дистов Восточной Сибири Х. Галсанов и Л.-Н. Дармаев (бывший лама габжа Сартул-Булакского дацана, кандидат в члены ЦДС), было созвано совещание буддийских деятелей, на котором был обсужден и принят документ, именуемый сангхой Положением о буддийском духовенстве СССР. Это Положение, принятое на совещании буддийских деятелей Бурят-Монгольской АССР, Иркутской и Читинской обл., является важным источником, подтверждающим высокий адаптационный потенциал буддийской сангхи в СССР в послевоенный период. Кроме того, совещание 1946 г. ознаменовало завершение длительного, сложного и противоречивого процесса модернизации традиционной структуры буддийской церковной организации, начавшегося еще в начале ХХ в. и связанного первоначально с национальным движением бурятского этноса.
Историческое значение Положения о буддийском духовенстве в СССР состоит в том, что оно является ярко выраженным социокультурным феноменом адаптации и модернизации ценностных императивов традиционной буддийской сангхи России того периода к резко изменившимся социальным, политическим и экономическим условиям, в которых буддийская сангха оказалась. Положение состоит из 8 разделов, содержащих 29 статей. Текст оригинала написан на старомонгольском языке. В статьях Положения определяются правовой и имущественный статус буддийского духовенства, регламентируется его быт и нормы поведения, фиксируются принципы соотношения и взаимоотношений с государственными структурами, кодифицируется монастырская иерархия, обозначаются изменения в обрядности, оставляющие незыблемым учение Будды. Вторым важным принципом, сформулированным в Положении, стал принцип, ограничивающий деятельность буддийского духовенства и монастырей сугубо культовыми и вероисповедными делами1. Естественно, этот принцип вытекал из законодательных инициатив советского правительства об отделении церкви от государства. Открывая совещание, Лубсан-Нима Дармаев, который и составил проект Положения, заявил, что «благочестивые ламы собрались с целью заложения прочной основы для дальнейшего расцвета буддийского духовенства»2. Верховным органом стало Центральное духовное управление буддистов СССР (ЦДУБ), избираемое съездом буддистов в составе 5 членов и 2 кандидатов во главе с председателем – пандидо хамбо ламой и его заместителем.
На первом послевоенном съезде 1946 г. председателем ЦДУБ был избран Л.-Н. Дармаев, а его резиденцией стало Хамбинское сумэ (ныне – Иволгинский дацан). Центральное духовное управление буддистов вскоре было зарегистрировано в Совете по делам религии при Совете Министров СССР, т.е. получило официальное оформление со стороны советской власти. Восстановление организационного статуса буддийских монастырей на учредительном совещании сопровождалось также внесением некоторых новшеств в организационную структуру, которые не предусматривались даже постановлениями обновленческих съездов довоенного периода. Так, например, по новому Положению ширетуи (настоятели храмов) не выбираются, а назначаются Центральным духовным управлением по рекомендации хамбо-ламы (ст. II)3. Также зафиксировано, что монахи должны проживать за общей монастырской стеной без обособленных усадеб, а дома, в которых они проживают, считаются собственностью монастыря. Хозяйство монастырей должно находиться в ведении джасы (казначейства). Храмовые и личные расходы сдаются казначею и по распоря- жению хамбо-ламы расходуются по определенному штатному расписанию. Единственным источником доходов монастырей предусмотрены добровольные пожертвования мирян1. Изменились и правила приема в организационную структуру сангхи. Во-первых, в соответствии с советскими законодательными актами о религиозных культах в сангху можно «вступить» по ходатайству религиозной общины мирян, выбирающей кандидата для исполнения их религиозных треб и отправлений. Во-вторых, ими могут стать лица, признанные ЦДУБ «способными выполнять правила Винаи, строго соблюдать принятые монашеские обеты». Наряду с запретами классического канонического характера, ламам было запрещено всевозможное лечение и врачевание в контексте тибетской, монгольской и бурятской медицины, что исторически играло важную роль в деятельности буддийского духовенства2. Также запрещалась любая практика «незарегистрированных» буддийских священнослужителей и «лам-самозванцев».
Соответственно требованиям времени и идеям социалистического реализма был решен вопрос о перерожденцах (хубилганах). С нашей точки зрения, принципиально важными в Положении являются статьи, в которых говорится о перерожденцах и возрастном статусе монахов. Известно, что в прошлом почти каждая бурятская семья отдавала одного, а то и двоих сыновей в буддийский монастырь на обучение в возрасте 5–7 лет. Положение в соответствии с советским законодательством анонсирует о принятии в хувараки (ученики) лиц, достигших 16-летнего возраста. Как пишет К.М. Герасимова, этот вопрос обсуждался еще на обновленческом съезде в 1922 г. – «запретить посвящение в хувараки лиц, не достигших 16 лет», но обновленческие требования о введении возрастного ценза в то время не были поддержаны [Герасимова 1964: 71].
Решение о запрете культа хубилганов было принято еще в 1922 г. по требованию лидеров обновленческого движения, но из-за противодействия консервативной части буддийского духовенства оно так и не было претворено в жизнь, хотя архивные материалы фиксируют неоднократные попытки восстановления традиционного культа перерожденцев в его классической форме.
О том, что культ перерожденцев все еще бытовал на локальном и мирском уровнях, свидетельствует тот факт, что во время Великой Отечественной войны ламы Еравнинского аймака провозгласили 13-летнего мальчика Пурбо, сына колхозника Эгетуйского сомона реэмигранта Ц. Гармаева хубилганом-перерож-денцем Хухэн хутухты. Примечательно, что Хухэн хутухта, умерший в 1869 г., по мнению халха-монголов, до этого времени не возрождался. Однако существовала версия-легенда, что он возродится в другой стране, где будет проповедовать Учение [Позднеев 1879: 21]. Миряне вскоре распространили версию, что Пурбо еще в младенчестве был признан хубилганом в Монголии и обладал необходимыми знаниями3. Проблема института перерожденцев все еще сохраняла свою актуальность в традиционном представлении бурят-мирян и буддийского духовенства. Однако совещание буддийского духовенства и мирян 1946 г. упраздняет это феноменальное явление в истории буддизма монгольских народов, обозначив, что «всякое присвоение себе званий гэгэнов и хутухт, хубилга-нов, чойженчи и пр. имеют в своей основе злокорыстные цели и поэтому несовместимы с учением буддийской религии»4. Тем самым документ не только практически трансформировал классические формы буддийских организаций
Бурятии, но и в целом затрагивал основы буддийской практики, став свидетельством перестройки иерархической структуры буддийского духовенства.
В заключение хотелось бы отметить, что традиционная буддийская сангха Бурятии прошла сложный и достаточно тяжелый путь адаптации к соционор-мативным условиям в пространственно-временном континууме своего автокефального пребывания, трансформируя и модернизируя свою организационную структуру. Но при этом она не только сохранила буддийскую культуру на своей традиционной территории, но и распространила ее по многим регионам Российской Федерации, а также за рубежом.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИМБТ СО РАН по проекту XII.191.1.3. «Комплексное исследование религиозно-философских, историкокультурных, социально-политических аспектов буддизма в традиционных и современных контекстах России и стран Центральной и Восточной Азии», номер госрегистрации № АААА-А17-117021310263-7.
Список литературы Духовенство и миряне в процессах восстановления/возрождения буддийских монастырей Бурят-Монголии в послевоенный период
- Герасимова К.М. 1964. Обновленческое движение ламаистского духовенства (1917-1930 гг.) Улан-Удэ: Бурятское книжное изд-во. 179 с
- Позднеев А.М. 1879. Ургинские хутухты: Исторический очерк из прошлого и современного быта. СПб: Типография братьев Пантелеевых. 84 с