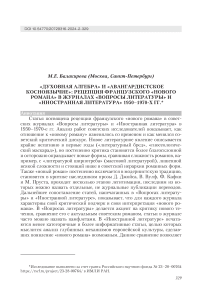"Духовная алгебра" и "авангардистское косноязычие": рецепция французского "нового романа" в журналах "Вопросы литературы" и "Иностранная литература" 1950-1970-х гг
Автор: Балакирева М.Е.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 2 (69), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рецепции французского «нового романа» в советских журналах «Вопросы литературы» и «Иностранная литература» в 1950-1970-е гг. Анализ работ советских исследователей показывает, как отношение к «новому роману» изменялось со временем и как менялся советский критический дискурс. Новое литературное явление описывается крайне негативно в первые годы («литературный бред», «гносеологический маскарад»), но постепенно критика становится более благосклонной и осторожно оправдывает новые формы, сравнивая сложность романов, например, с «литературой ширпотреба» (массовой литературой), лишенной всякой сложности и стоящий ниже в советской иерархии романных форм. Также «новый роман» постепенно включается в модернистскую традицию, становится в критике наследником прозы Д. Джойса, В. Вулф, Ф. Кафки и М. Пруста, проходит несколько этапов легитимации, последним из которых можно назвать отдельные, не журнальные публикации переводов. Дальнейшее сопоставление статей, напечатанных в «Вопросах литературы» и «Иностранной литературе», показывает, что для каждого журнала характерны свой критический подчерк и своя интерпретация «нового романа». В «Вопросах литературы» делается акцент на критику нового течения, сравнение его с актуальным советским романом, статьи в журнале часто можно назвать памфлетами. В «Иностранной литературе» печатаются менее категоричные и более информативные статьи, целью которых мыслится анализ глубинных механизмов европейской культуры, сделавших появление «нового романа» возможным. Данное сравнение позволяет сделать предположение о разной читательской аудитории журналов - направленного на внешнего читателя журнала «Вопросы литературы» и направленного на внутреннего читателя журнала «Иностранная литература».
«новый роман», французский роман в ссср, «вопросы литературы», «иностранная литература»
Короткий адрес: https://sciup.org/149146233
IDR: 149146233 | DOI: 10.54770/20729316-2024-2-329
Текст научной статьи "Духовная алгебра" и "авангардистское косноязычие": рецепция французского "нового романа" в журналах "Вопросы литературы" и "Иностранная литература" 1950-1970-х гг
Nouveau roman ; French novel in the USSR; “Voprosy Literatury”; “Inos-trannaya literatura”.
Появление французского «нового романа» вызвало неоднозначные реакции в международном литературном сообществе, а сам жанр окрестили «спасением» и «проклятием» послевоенной литературы [Denès 2001]. Одни видели в формальных поисках спасение и очищение литературы, другие – яркий пример разрушения европейской цивилизации [Guermès 2021; Arber 2023]. Не остались в стороне и советские критики, для которых «новый роман» стал ярким примером разрушения западного капиталистического мира [Анисимов 1963]. Новое «антигуманистическое» явление называли то «декадентским радикализмом» и «агрессивным модерном», то «аннигиляцией» искусства слова, а то и просто литературным «бредом». Тем не менее сложно сказать, что «новый роман» не приживается в советском литературоведении: публиковавшиеся отдельными томами истории французской литературы за 1960-е или 1970-е гг. непременно включали в себя статьи о «новом романе» либо статьи об авторах, имевших отношение к «новому роману» [Еремеев 1974; Андреев 1977], а авторов приглашают на писательские встречи и симпозиумы (например, Н. Саррот и А. Роб-Грийе участвуют во встрече писателей Европы в Ленинграде 5–8 августа 1963 г.). Словно советская критика пребывает в отношениях вечного притяжения / отталкивания с теориями «нового романа», что отчасти объясняется конкретными периодами советской истории (начало «оттепели» совпадает с проникновением в СССР вестей о «новом романе»), отчасти – кризисом соцреалистического романа и переосмысления роли критики в литературном процессе.
Настоящее исследование задумывается как серия публикаций, посвященных рецепции французского «нового романа» в СССР, потому представляется разумным для начала проанализировать, какой образ «нового романа» складывается у читателей «Вопросов литературы» и «Иностранной литературы» и различается ли критическая оценка творчества «новых романистов» в каждом из журналов. Предварительный детальный анализ статей позволит нам в последующих публикациях углубиться в анализ феномена, выдвинуть ряд гипотез и понять, как «новый роман» становится частью актуального литературного процесса в СССР и частью литературной истории Франции, написанной советской критикой.
Рецепция «нового романа»: «Вопросы литературы»
Первая статья в «Вопросах литературы», в которой упоминаются имена Натали Саррот и Алена Роб-Грийе, печатается в № 3 1957 г., и критик Евнина Е., употребляя термин «новый роман» в кавычках, тем самым принимая самоназвание группы, называет новые романные поиски французских авторов «бредом», по сравнению с прогрессивной соцреалистической литературой. В № 5 1959 г. критик А. Иващенко назовет движение «нового романа» «реакционным по своей сути» литературным «авангардом». В статье «Социалистический реализм и современная зарубежная литература» исследователь приводит важные для новых романистов (глашатаем которых надолго в советской критике становится писатель-теоретик
А. Роб-Грийе) программные тезисы: «смерть романа», освобождение «от мифов и глубины, от всякого рода идеологических критериев», отказ от принципов «партийности искусства». Вероятно, именно эта статья запускает лавинообразную серию публикаций о «новом романе» в 1960-е гг. в «Вопросах литературы».
В адрес новых романистов звучат упреки в мнимой сложности и мнимой новизне [Балашова 1963], усложнению читательской практики, «герметичности»: непонятные для читателя игры со структурой и с содержанием будут основным аргументов советской критики против «нового романа» 1960–1970-е гг. Однако при общем скептическом отношении к новому роману советские литературоведы пытаются вписать его в традицию изучения французской литературы. Только «новый роман» считают скорее не авангардным, но модернистским (в крайнем изводе модернисткой литературы) и даже декадентским, воплощающим «эстетический софизм», «эстетику чистых форм», экспериментом, предпочитающим описывать «каютные кошмары», а самих писателей называют «потерянным поколением холодной войны» [Зонина 1962] и «незавербованными» (т.е. не ангажированными). Встречается даже сравнение с «летризмом» (орфография статьи сохранена – М.Б. ), непопулярное в литературоведческой среде, но фиксирующее внутреннюю иерархию: «летризм» в этой оппозиции считается одной из «не обладающих хоть каким-нибудь авторитетом школок» [Вели-ковский 1965] и проигрывает в серьезности «новому роману», сравнимому по проблематике с экзистенциализмом или сюрреализмом. Занятно, что в эти же годы советские литературоведы перенимают язык французских структуралистов (математические метафоры), характеризуя новые веяния как «а-литературу» (встречается другой вариант написания – «алитерату-ра») и «духовную алгебру» [Балашова 1963; Андреев 1964].
Необычными кажутся голоса благосклонные, дающие «новому роману» право на развитие и некоторое влияние. Так, Т. Мотылева говорит о новом романе как о течении «творчески бесперспективн[ом]», но полезном для развития реализма [Самарин 1967], а М. Ваксмахер называет «новых романистов» «писател[ями] безусловно талантлив[ыми], ищу-щ[ими], думающ[ими]» [Ваксмахер 1966], что далеко от первых реакций советской критики (окрестившей, как было указано ранее, формальные поиски «бредом»).
В 1970-е гг. в поле советской критики попадает «новый новый роман» (в терминологии Л. Андреева) или «новейший роман» (в терминологии Л. Зониной), обратившийся к «продуцирующему тексту», окончательно разрушивший романную форму и тем самым – парадоксально – выгодно оттенивший романы Саррот или Бютора. Так, Л. Зонина пишет в статье «“Новый роман”: вчера, сегодня», что «“новые” романисты перешли на иной “код” условности – вместо того, чтобы скрывать арматуру текста в толще жизнеподобия, они вытащили ее на поверхность, обнажили структурные элементы, внутритекстовые отношения, способ производства смысла, однако “новые” романы Натали Саррот и Мишеля Бютора не переставали от этого быть моделями действительности » [Зонина 1974, 70].
Отныне рецепция нового романа в «Вопросах литературы» идет параллельно с рецепцией «новейшего романа», структуралистских и постструктуралистских поисков Ж. Рикарду, Ф. Соллерса, позднего Роб-Грийе («Проект революции в Нью-Йорке», 1970), журнала «Тель Кель», и сравнение с радикалами, «еретиками» от авангарда позволяет оправдывать ранние произведения «новых романистов». Конечно, это не отменяет прежних оценок, маркирования романов как литературного декаданса, обвинений в «антигуманизме» и «аннигиляции» искусства, сетований на то, что «новый роман» есть литература «анархистского отчаяния», «модернизма без берегов» и «агрессивного модерна» [Андреев 1987]. Включение «нового романа» в модернистский канон, признание его наследником Джойса и Кафки, Пруста и Вулф, сравнение с творчеством Гюисманса (его романом «Наоборот») – все это выстроило путь к новой форме через традицию, тем самым узаконив изучение «нового романа» и заставив признать его легитимность Еще один фактор, сыгравший на признание новых романистов, – их отчаянная борьба (или считываемая как таковая) с обществом потребления, «научность» их эксперимента противопоставляется в советской критике массовой поверхностной литературе («литературе ширпотреба» по Л. Зониной). Первые попытки сравнить массовое и интеллектуальное во французской литературе появляются в критических обзорах в 1970-е гг., но особенно актуальны они становятся позже, в статьях 1980-х гг.
Рецепция «нового романа»: «Иностранная литература»
Рецепция «нового романа» в журнале «Иностранная литература» начинается в конце 1950-х гг., и первый критический обзор явления появляется в статье С. Великовского «Разрушение романа: о «новой школе» французской прозы» (ИЛ № 1, 1959). Это первая попытка издания подступиться к новому явлению, объективно исследовать его с позиции советской критики, изучить его основы и предугадать последствия распространения «декадентской болезни», поразившей одряхлевшее тело романа. «Новый роман» признается наследником декаданса (сравнивается «новый роман» с романами Пруста и отчасти – Джойса), авторы величаются «чернокнижниками» и «ревнителями «абсолютной красоты», а сами романные поиски – «алхимией» искусства (поскольку романисты стремятся найти «чистый предмет» искусства – действо, граничащее для критика с алхимическими опытами).
Также в статье впервые появляются «штампы», которые позднее подхватят исследователи «нового романа»: книги Саррот становятся «ультрапсихологичными» (а вот сведение ее техники к фрейдистской и иррациональной советская критика не унаследует), романы Роб-Грийе – позитивистски окрашенными (Великовский именует «вещизм» «позитивистской» идейкой), произведения Бютора – исполненными философией «первооснов бытия». Сам же «новый роман» называется «романом будущего» (заимствование самоопределения самих участников движения)
и одновременно «авангардистской школкой», «школой отрицания», «анархистским отрицанием всяких ценностей». В конце статьи Великовский объявляет теории «нового романа» «гносеологическ[им] маскарад[ом]», нацеленным на борьбу с «революционным искусством» (т.е. соцреалисти-ческим романом).
Занятно, что именно в этой статье – самой едкой из всех статей, вышедших из-под пера С. Великовского, – появляются первые образцы «новороманной» прозы. Небольшие отрывки из романов Саррот «Мартеро» и Роб-Грийе «Ревность» («Изменение» Бютора дается в пересказе: по всей видимости, это единственный роман с понятной и податливой структурой, пересказ которого в принципе возможен). Завершается статья резкой отповедью нового романного искусства: «Эстетика «романа будущего» – эстетика одряхлевшего класса, выдающего собственный склероз за общечеловеческую трагедию. Драпируя распад искусства видимостью поисков «чистого предмета» романа, освобожденного от характеров, сюжета, идей, теоретики «новой школы» тщетно пытаются скрыть за громкими фразами об «авангардистской» эстетике безысходный тупик, в который зашла художественная мысль современной буржуазии» [Великовский 1959, 185].
Стоит отметить, что далее в «Иностранной литературе» появляется еще несколько критических статей о «новом романе», но трибуной новых мыслей журнал не становится. Большинство статей публикуются в 1960е гг., на пике интереса к «новому роману», после чего интерес постепенно затихает. Некоторые статьи напрямую посвящены творчеству «неороманистов» (например, статья С. Великовского «На холостом ходу»), в некоторых они упоминаются в аргументации (во время творческой встречи в редакции «Иностранной литературы» «Литература, документ, факт» тот же С. Великовский вспоминает «Эру подозрений» Саррот и частично соглашается с ее выводами о недоверии читателя к прочитанному) или как пример «от противного» (Л. Зонина в послесловии к роману «Кружевница» Паскаля Лэне говорит о преодолении эстетики «нового романа» в № 9, 1976). Общие комментарии, схожие с оценкой в «Вопросах литературы», об экспериментальном характере романов («экспериментальная лаборатория»), об «алитературе» и «ачитателе», о «стерилизации» литературы и «бесплодии» дополняются интересными критическими наблюдениями. Первое подчеркивает параллели с экзистенциализмом и тем самым встраивает «новый роман» в складывающуюся традицию новейшей литературы (а мимоходом упоминает и «модернистские» корни – Пруста, Джойса, Жида). В данном подходе «новый роман» являет собой ответ на экзистенциальную тошноту Сартра и Камю, однако трагическое мироощущение в нем отсутствует [Зонина 1967, 196]. Второе наблюдение заостряет противоречие между гуманным и негуманным, гуманистическим и антигуманистическим: советские ученые обращаются к мыслям Ортеги-и-Гассета и величают «новый роман» «девятым валом дегуманизации» в мире, где реалистический роман остается последним оплотом гуманизма [Вели-ковский 1963, 180]. И «неороманисты» превращаются в статьях в «дегу-манизаторов» от эстетики, сам «новый роман» становится иллюстрацией
«дегуманизации повествования». Вероятно, тезис о растерянной человечности вдохновлен чтением романов Роб-Грийе, которого в статьях называют «геометром», а стиль его – «позитивистским «вещизмом» [Великов-ский 1963, 183]. К Саррот и Бютору советские критики более благосклонны, хотя Саррот и ругают за «ультрапсихологизм» [Великовский 1963; Анисимов 1963]. Бютору же оказывается чуждой «дегуманизация» повествования: романы его тяготеют к общечеловеческому [Мотылева 1970].
В целом статьи в «Иностранной литературе» стремятся пояснить принципы и глубинные механизмы возникновения «нового романа», которые С. Великовский, например, видит в возвращении в европейскую мысль философии агностицизма, тотального неверия и сомнения, которые и заводят «лабораторную прозу» одаренных художников в тупики. В журнале нет яростной критики, нет статей-«памфлетов», подобных статьям в «Вопросах литературы». Еще одна особенность «Иностранной литературы» – публикация переводов, знакомство читателей с реальными образцами «новороманной» прозы. Если в «Вопросах литературы» критические статьи представляют собой ответы на теории и спор с теориями (часто цитируются именно статьи новых романистов, манифесты и споры с другими участниками литературного поля во Франции), то «Иностранная литература» предлагает читателям ознакомиться с некоторыми отрывками. Впервые значительные отрывки из романов появляются в статье С. Великовского «На холостом ходу» под заголовком «Литературные иллюстрации»: в переводе М. Ваксмахера представлены фрагменты из «Планетария» Н. Саррот (с тех пор роман не переводился), «В лабиринте» Роб-Грийе (появляется полный перевод Л. Коган в 1983 г.) и «Ступеней» Бютора (также не переводился больше). В своей статье С. Великовский размышляет о методе и техниках, обращаясь к живому примеру. Это единственное появление романов в журнале, позднее в «Иностранной литературе» напечатают только «Изменение» М. Бютора – за яркую социальную позицию (№ 9, 1970).
Отметим, что произведения «новых романистов» практически не переводятся в СССР. Например, в послесловии к публикации «Изменения» Бютора Т. Мотылева упоминает «Золотые плоды» Н. Саррот (переведен в 1969 г. Р. Райт-Ковалевой), позднее в 1983 г. выходит общий сборник «но-вороманистов» – с произведениями Роб-Грийе, Саррот, Бютора и Симона (сборник 1983 г. с предисловием Л. Андреева, вышел в издательстве «Художественная литература»). В каких-то антологиях печатают отдельные рассказы (например, в сборнике «Французская новелла XX века. 1940– 1970», вышедшем в 1976 г., есть рассказы М. Бютора «Маленькие зеркальца» и А. Роб-Грийе «Пляж»; в сборнике детской прозы французских писателей «Как запело дерево» 1985 г. напечатан рассказ М. Бютора «Титан и Шельмочка»). Но серьезные публикации на русском появляются только в конце 1980-х–начале 1990-х гг., причем Мишель Бютор, принятый советской критикой теплее прочих, переводится гораздо меньше других радикальных новаторов. К слову, переводов «новейшего романа» в журнале «Иностранная литература» нет вовсе, встречаются лишь упоминания в критических разборах – факт симптоматичный: как видно по рецепции «нового романа» в «Вопросах литературы», «новейший роман» считается крайней степенью разрушения романа, а потому не удостаивается внимания. Переводы Соллерса появятся позднее, перевод Рикарду и вовсе не появится на русском.
Предварительные выводы: поиск зазора и проблема читателя
Анализ статей позволяет выделить несколько перспективных направлений для дальнейших исследований. Первое соображение касается легитимации «нового романа» в советском литературоведении: несмотря на общее негативное отношение к новым романным формам, критики стараются найти «точки соприкосновения», «зазоры» в теории «нового романа», чтобы обозначить параллели в художественных процессах Франции и СССР и иметь возможность включить произведения Н. Саррот, М. Бю-тора и отчасти А. Роб-Грийе в общую историю французской литературы (тематически – через связь с соцреализмом, идеологически – через европейский модернизм и декаданс).
Второе соображение затрагивает проблему читателя толстых журналов. Разница в интерпретации и ретекстуализации «нового романа», которую можно увидеть в проанализированных статьях, позволяет выдвинуть предположение, что адресат у журналов был разный и что статьи писались для разных читателей – «внешнего» читателя в случае «Вопросов литературы» и «внутреннего» читателя в случае «Иностранной литературы». Однако подобные заключения требуют более обстоятельного исследования и отдельной развернутой публикации.
Список литературы "Духовная алгебра" и "авангардистское косноязычие": рецепция французского "нового романа" в журналах "Вопросы литературы" и "Иностранная литература" 1950-1970-х гг
- Андреев Л.Г. Современная литература Франции. 60-е годы. М.: Издательство МГУ, 1977. 366 с.
- Андреев Л.Г. Куда же идет французская литература? // Вопросы литературы. 1964. № 2. С. 127-134.
- Андреев Л.Г. Литература у порога грядущего века // Вопросы литературы. 1987. № 8. С. 3-42.
- Анисимов И.И. Ленинградский диалог о современном романе // Иностранная литература. 1963. № 11. С. 246-252.
- Балашова Т.В. Споры о «новом романе» // Вопросы литературы. 1963. № 12. С. 96-112.
- Ваксмахер М. Человек и история (Заметки о современном французском романе) // Вопросы литературы. 1966. № 5. С. 124-146.
- Великовский С.И. На холостом ходу («Новый роман» во Франции) // Иностранная литература. 1963. № 1. С. 176-191.
- Великовский С.И. Приглашение поразмыслить (К проблеме «отчуждения») // Вопросы литературы. 1965. № 9. C. 166-189.
- Великовский С.И. Разрушение романа (О «новой школе» французской прозы) // Иностранная литература. 1959. № 1. С. 175-185.
- Еремеев Л.А. Французский «новый роман». Киев: Наук. думка, 1974. 223 с.
- Зонина Л.А. Марксистский анализ «нового романа» // Вопросы литературы. 1962. № 4. C. 131-136.
- Зонина Л.А. «Новый роман»: вчера, сегодня // Вопросы литературы. 1974. № 11. C. 69-104.
- Зонина Л.А. Потребительство - канонизация и развенчание // Иностранная литература. 1967. № 2. С. 187-197.
- Мотылёва Т.Л. Что же изменилось? // Иностранная литература. 1970. № 9. С. 101-102.
- Самарин Р.М. Социалистический реализм в зарубежных литературах // Вопросы литературы. 1967. № 10. C. 3-49.
- Arber S. Le Nouveau Roman, pierre de touche de la modernité littéraire // Germanica. 2016. № 59. P. 19-32.
- Denès D. Le nouveau roman: problématique d'une institutionnalisation // Le temps des lettres: Quelles périodisations pour l'histoire de la littérature française du 20e siècle? Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2001. 338 p.
- Guermès S. Le Nouveau Roman et les États-Unis. Bruxelles: Peter Lang Verlag, 2021. 190 p.