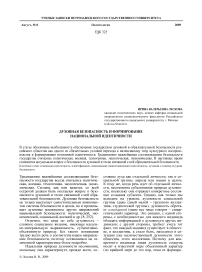Духовная безопасность и формирование национальной идентичности
Автор: Лескова Ирина Валерьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 8 (102), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье обоснована необходимость обеспечения государством духовной и образовательной безопасности российского общества как одного из обязательных условий перехода к интенсивному типу культурного воспроизводства и формирования позитивной идентичности. Традиционно важнейшими составляющими безопасности государства считались политическая, военная, техногенная, экологическая, экономическая. В настоящее время становится актуальным вопрос о безопасности духовной и тесно связанной с ней образовательной безопасности.
Социальная идентичность, идентификация, национальная (цивилизационная) идентичность, духовная и социокультурная безопасность
Короткий адрес: https://sciup.org/14749623
IDR: 14749623 | УДК: 323
Текст научной статьи Духовная безопасность и формирование национальной идентичности
Традиционно важнейшими составляющими безопасности государства всегда считались политическая, военная, техногенная, экологическая, экономическая. Сегодня, как нам кажется, со всей остротой должен быть поставлен вопрос о безопасности духовной и тесно связанной с ней образовательной безопасности. Духовная безопасность не только выступает самостоятельным компонентом системы безопасности в целом, но и пронизывает духовные компоненты других направлений национальной безопасности: политической, экономической, социальной, военной и др. [8; 252].
Отметим, что сама по себе духовность -сложное социальное явление, имеющее идеально-материальную выраженность, субъективнообъективную природу. Без такого понимания трудно вести речь о соответствующем направлении безопасно сти, поэтому остановимся на отмеченной характеристике более подробно.
Идеальная природа духовности несомненна, поскольку она характеризует, прежде всего, со стояние духа как отдельной личности, так и социальной группы, народа или нации в целом. К тому же, когда речь идет об отдельной лично -сти, несомненна субъективная природа духовности, поскольку она отражает конкретное состояние сознания субъекта. Однако, как только мы выходим на уровень духовности социальной группы (даже самой малой - трудового коллектива, студенческой группы), духовность обретает солидарный (ныне все чаще говорят - синергетический) характер. Это связано, с одной стороны, с необходимостью для каждого индивида обладать информацией о духовности других индивидов; с другой стороны, требует учета тот факт, что каждый индивид существует в обществе, в коллективе, а стало быть, находится в ситуации уже наличествующей духовности этого общества, этого коллектива. Поэтому для конкретного индивида такая духовность социума носит в известной мере объективный характер (по крайней мере до тех пор, пока ее формиро- вание и развитие происходят без участия и влияния этого индивида).
Что же касается обмена информацией (в данном случае – информацией о состоянии и содержании духовности) между индивидами, между индивидами и обществом, то такой обмен возможен лишь при помощи текстов (понимаемых в широком смысле – как любой значимой совокупности знаков), идет ли речь о языке устном или письменном, о системе социальных символов (например, государственных), о художественных произведениях или партийных программах и т. д. Поскольку любая совокупность знаков имеет материальную природу, то нельзя игнорировать и такого рода материальный аспект духовности: духовность формируется и поддерживается совокупностью специфических информационно-обменных процессов в обществе. Стало быть, опасность для духовности может проистекать не только со стороны ее идеального содержания (например, подмена и замена конкретных духовных ценностей), но и со стороны материальных носителей информации об этих ценностях (например, создание помех техническим средствам телерадиовещания либо каналам связи всемирной паутины Интернета).
Существенным компонентом духовности (таким компонентом, который в наибольшей степени подвержен внешним угрозам) является национальная идентичность , тесно связанная с понятием национальной идеи. Именно понятие национальной (и государственной) идентичности выступает наиболее ярким проявлением духовного осмысления индивидом его места в обществе, причем места, соотнесенного с социальным (в частности, этносоциальным) статусом соотечественников.
Место национальной идентичности в системе духовности не является постоянным и стабильным. Она выступает на первый план, прежде всего, в эпоху социальных потрясений, крупных общественных перемен. Именно на таком этапе и находится современная Россия. Долгое пребывание страны на этапе социальных перемен вызывает у части исследователей сугубо пессимистические настроения относительно состояния духовной безопасности России, приводит их к выводу о том, что в сфере духовности Россия оказалась полностью незащищенной от существующих и предстоящих угроз (см., например, [2]).
Академик РАН Т. И. Заславская в обстоятельном исследовании человеческого потенциала современной России делает вывод о заметном снижении социально-культурного потенциала россиян по сравнению с советским временем, выделяя в связи с этим три тенденции: 1) «сознательное и активное» разрушение государством институциональной, материальнофинансовой и кадровой базы развития науки, образования и культуры, 2) все более глубокая сегрегация разных слоев населения по социально-культурным критериям (характеру ценностей, интересов, образу и стилю жизни), 3) безусловное и очень резкое снижение общей морали и нравственности [5; 20].
В настоящее время духовную угрозу несут самые различные факторы и явления. Среди них социологами обычно называются следующие:
-
• интенсивные модернизационные процессы;
-
• некритичное заимствование извне и насильственное внедрение экономических и политических моделей;
-
• разрушение базовых ценностей христианской культуры, экспансия нетрадиционных религий;
-
• манипулирование с помощью СМИ общественным сознанием;
-
• целенаправленное навязывание асоциальных и противоправных эталонов поведения и стилей жизни за счет подачи безоценочной информации о формах и способах существования преступного мира.
Мы считаем необходимым добавить к этому перечню еще одну реалию сегодняшнего дня – разрушение культурообразующего ядра современного российского образования, превращение его в узкоспециальное. Эта, по нашему мнению, куда более серьезная духовная угроза не осознается еще в полной мере российским обществом потому, что опасность духовного кризиса, который последует вслед за превращением образования в «узкоспециальное», – в его «невидимости» и отсроченности последствий (обычно общество осознает как катастрофу только ту угрозу, которая впрямую надвигается на него, непосредственно ему угрожает, а эта катастрофа еще «в перспективе»). Все остальные названные выше острые социальные проблемы являются, как мы полагаем, всего лишь производными от этой, главной.
Обозначая данную проблему как одну из самых важных, напрямую связанных с безопасностью России, А. С. Запесоцкий пишет: «За последние годы существенно деформировалась система духовного самопроизводства общества, и, прежде всего, в результате кризиса институтов социализации и культурной преемственности, важнейшим из которых является институт образования… Просчеты государственной образовательной политики проявились не только в сокращении объемов финансирования высшей школы, но, прежде всего, в непродуманной модификации целей и ценностей образования» [4; 93].
Между тем безопасность государства в стратегическом плане во многом определяется состоянием системы образования в целом и высшего профессионального образования в частности. Разумеется, национальную безопасность нельзя обеспечить лишь средствами образовательной политики, но ее невозможно гарантировать и при отсутствии последней. У современного российского государства, несмотря на множество доктрин и концепций, такой политики нет, но существующая образовательная практика нуждается в придании ей целостного и направ- ленного характера, обретении генеральной линии, связанной с культурным воспроизводством. В официальной статистике нет такого понятия, как степень ответственности государства за будущее своей страны и судьбу ее граждан, но совокупный опыт развития цивилизации свидетельствует, что такой показатель есть, и он измеряется, прежде всего, долей расходов государства на образование, науку и культуру. С 1928 по 1932 год ежегодные расходы советской власти на образование составляли 11,2 % бюджета, к 1938 году они выросли до 13,6 %, во время Великой Отечественной войны, в 1945 году, снизились до 8,8 %, но уже в 1950 году достигли 13,9 %. За период с 1931 по 1940 год расходы на народное образование выросли в 9 раз. Даже в тяжелейшем 1942 году они составляли 5,7 %. До 1985 года финансовая политика государства сохраняла отношение к образованию как приоритетному направлению социальной политики. С началом перестройки положение изменилось: образование стало финансироваться по остаточному принципу и снизилось при М. С. Горбачеве до двух с небольшим процентов [3; 118–119]. Один из видных отечественных ученых В. Б. Миронов справедливо заметил, что в таком подходе к финансированию образования и науки проявляется закон мелитократии: чем выше уровень правящей элиты, тем больше внимания, забот, средств и усилий она уделяет вопросам культуры, науки, техники, образования и наоборот [7; 145]. Можно утверждать, что 1985 год стал началом распада российской системы образования, с этого времени страна начинает терять свою образовательную безопасность. Политика перестройки подорвала стратегические позиции страны в области образования в мире и исключила СССР и его преемника – Российскую Федерацию – из области лидеров в этой жизненно важной для сохранения национальной и го сударственной независимости области. К концу перестройки потери в области образования были уже очевидны. Судя по доле расходов государства на образование, в конце ХХ – начале ХХI века в России игнорируется идея о существовании особой, нерасторжимой, прямой связи между образованием и культурным воспроизводством, с одной стороны, и национальной и государственной безопасностью – с другой. Современное российское государство не видит в образовании самую надежную оборону страны, хотя образование, как известно, действует на всех уровнях безопасности: лично сти, общества, государства, и совершенно очевидно, что экономическая, военная, технологическая и любая другая безопасность государства немыслима без широкообразованных квалифицированных кадров.
При этом комитет по безопасности Государственной думы еще прошлого созыва совместно с учеными РАН определил, что 19 из 20 показателей национальной безопасности России нахо- дятся у красной черты или даже за ее пределами [1; 14]. Данное заключение совпадает с выводами специалистов ЮНЕСКО и Всемирной организации здоровья, которые в начале 90-х годов ХХ века изучали проблему жизнеспособности различных наций и государств. При 5-балльной оценке высший балл не получило ни одно государство. На 4 балла была оценена жизнеспособность немногих, в том числе Болгарии, Испании, Голландии, Исландии, Дании и др. Всего лишь 3 балла получили США, Япония, Германия и многие другие высокоразвитые государства. России эксперты поставили удручающе низкий балл – всего лишь 1,4: состояние ниже этого ведет к необратимой деградации.
В те же 90-е годы ХХ века на одном из международных семинаров, проведенном ЮНЕСКО, отмечалось, что важнейшей причиной угасания творческого потенциала народа является ослабление интеллектуальных и духовных традиций в результате разрушения национальной системы образования и подготовки слоя интеллигенции, чуждой своему народу, его истории, традициям, культуре. Следовательно, развитие культурно и национально ориентированного образования рассматривается сегодня в мире как ведущая предпосылка национальной и государственной безопасности.
В этих условиях необходимо понять, что национальная безопасность России зависит от сохранения, развития и мобилизации интеллектуального потенциала страны. В 80-х годах ХХ века четко обнаружилась тенденция мирового развития, свидетельствующая о том, что место и роль любой страны в мировом сообществе зависят от качества подготовки специалистов. Востребованность этого ресурса является важнейшим стимулом его мобилизации и актуализации. В настоящее время образование выдвигается на одно из первых мест среди факторов развития человечества. Это связано с переходом цивилизации в постиндустриальную стадию, которую еще определяют как информационное общество. Если сегодня не принять целенаправленные и системные меры, то может случиться, что России в нем не окажется места. Стратегическая доктрина прогресса развитых стран мира опирается на концепцию развития человеческого потенциала. В значительной мере этому способствует система образования. За ее счет развитые страны получают более 40 % валового прироста национального продукта [1; 16]. Широко известен тот факт, что страны Восточной Азии (Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия и др.) именно за счет вложения средств в систему образования за 10–15 лет смогли приблизиться к уровню промышленных «монстров» [1; 14–20]. В России же, в том числе и на государственном уровне, продолжает бытовать мнение, что приоритетным образованию позволительно будет стать только после достижения страной экономического благополучия. Таким образом, обра- зование в России сегодня понимается не как необходимейшее условие и главная причина экономического и любого другого благополучия, а всего лишь как вполне вероятное следствие этого грядущего, но пока не достигнутого благополучия.
Термин «национальная безопасность» активно вошел в употребление во второй половине XX века. Характерно, что в значительной мере это связано с новой ролью образования в жизни общества. Запуск первого космического спутника Земли и полет первого человека в космос были восприняты в США как национальная катастрофа, причину которой обнаружили в несовершенстве американской системы образования. Уже в 1958 году в США был принят «Закон об образовании в целях национальной безопасности» (само название закона говорит о верно понятой и истолкованной взаимосвязи этих двух дефиниций). Обратим внимание на то, что президент Дж. Кеннеди сформулировал свой исторический лозунг «Нация в опасности» не просто в условиях холодной войны, а в условиях интеллектуального, культурного противоборства двух систем: американской и советской. Была разработана программа реформирования американской школы. С этого времени буквально все президенты США уделяли много внимания проблемам образования. Американская образовательная система находилась и находится под пристальным вниманием правительственных органов и ученых, а также монополистических объединений и партий, потому что с эффективностью ее функционирования американцы связывают надежды на укрепление государства, видят в ней способ решения проблемы национальной безопасности.
В настоящее время в России такого отношения к образованию мы не наблюдаем, хотя не только в далеком прошлом, но даже еще в начале ХХ века многие государственные деятели и ученые России принимали личное участие в развитии системы образования. Среди них, как мы знаем, были В. И. Вернадский, С. Ю. Витте, Д. И. Менделеев, П. А. Столыпин и многие другие.
Высшей школе в России около двухсот лет, за это время, как подсчитали социологи, она подвергалась перестройке примерно каждые 25 лет, то есть каждое демографическое поколение поступало в новую высшую школу. Средняя школа реформировалась чуть реже. Масштаб и последствия таких изменений были неодинаковы. В последнее время Россия возвращается в лоно мировой цивилизации, но не менее, а может быть, гораздо более важно, что она возвращается к отечественной традиции, которая рассматривает образование как основную составляющую культурного воспроизводства и культурной, а значит, национальной безопасности.
Итак, определим, что же такое безопасность вообще и духовная и образовательная безопасность в частности. В Законе РФ «О безопасности» (утвержден 5 марта 1992 года) безопасность трактуется как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз». В духе этого определения безопасность Российской Федерации нужно рассматривать как деятельность, направленную на защиту национальных интересов и национальных ценностей, их приумножение. Под «жизненно важными интересами» в этом законе понимается «совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает возможности перспективного развития личности, общества и государства». Безопасность здесь неразрывно связана с понятием устойчивого развития. Поэтому нами безопасность понимается как создание условий для устойчивого развития общества и человечества в целом. Такие условия создает, прежде всего, именно система образования. Таким образом, содержание государственного образовательного заказа напрямую связано с обеспечением безопасности страны.
Определение духовной безопасности предлагает А. С. Запесоцкий: это «система условий, позволяющая культуре и обществу сохранять свои жизненно важные параметры в пределах исторически сложившейся нормы. Их выход за рамки нормы под воздействием различного рода факторов (прежде всего культурного, ценностнонормативного характера) ведет к дезорганизации и, в конечном счете, – к национальной катастрофе, то есть распаду общества как целостной системы в связи с разрушением структурирующих его духовных оснований» [4; 96]. Пренебрежение духовной безопасностью неизбежно влечет за собой кризис национальной самоидентичности, усугубляет комплекс национальной и культурной неполноценности, открывает границы для культурной экспансии стран – экономических лидеров. Совершенно очевидно, что, пренебрегая своей духовной и образовательной безопасностью, считая их второстепенными, Россия никогда не станет в один ряд с экономически развитыми странами мира, не станет равным партнером в диалоге с ними, а это уже проблема геополитическая. Однако в настоящее время геополитический потенциал образования не только не используется в полной мере, но даже не осмысливается в соответствии с масштабом проблем.
С понятием духовной безопасности по принципу целого и его части связано понятие образовательной безопасности. Понятие образовательной безопасности тоже пока не определено, хотя попытки сформулировать его предпринимаются. Одно из таких определений принадлежит И. Майбурову. Он рассматривает образовательную безопасность как «защищенность системы образования от дестабилизирующего воздействия внутренних и внешних угроз, как способность государства сохранять и развивать национальную образовательную систему, гарантируя при этом каждому члену общества возможность получения качественного образования, в том числе и высшего, и обеспечивая тем самым устойчивое развитие как личности, так и общества, государства». Под «угрозами» И. Майбуров имеет в виду «совокупность условий или факторов, стечение обстоятельств, которые могут повлечь такое ухудшение уровня безопасности субъекта, когда его нормальное функционирование станет проблематичным» [6; 19]. Уровень безопасности всей системы определяется состоянием безопасности ее составляющих (среднее общее, начальное, среднее и высшее профессиональное образование).
На наш взгляд, образовательная безопасность - это охрана и обеспечение нормального функционирования системы образования (в том числе и высшего профессионального) как главного механизма культурного воспроизводства общества. Для обеспечения образовательной безопасности система образования должна содействовать воспитанию образованного человека, сочетающего в себе цело стное знание выбранной профессии с объемным представлением о мире и высоким уровнем духовности и индивидуальной культуры. Кроме того, образовательная безопасность - это не только подготовка работников с высокими профессиональными качествами, доскональным знанием конкретной области деятельности, но и способных к смене видов деятельности, с оперативной реакцией на применение способностей и пополнение знаний на новом поприще. В связи с этим образовательная безопасность совершенно исключает узкопрофессиональный подход к образованию, поскольку он приводит к дефициту духовной культуры, прагматизму и интеллектуальному цинизму, а это разрушает культуру, нацию, государство. Таким образом, по нашему мнению, образовательная безопасность решает следующие задачи:
-
• социализация человека через его погружение в культурную среду,
-
• создание условий для приобретения каждым членом общества широкого базового образования, позволяющего достаточно быстро переключаться на смежные области профессиональной деятельности,
-
• гармонизация отношений человека с природой и обществом.
Требование широкого общего образования является, на наш взгляд, главным содержанием понятия образовательной безопасности. Основой обязательного общего образования должны стать такие система и структура образования, приоритетом которых являются не узкоспециализированные, а общекультурные, долгоживущие, инвариантные знания, способствующие целостному восприятию научной и культурной картин окружающего мира, интеллектуальному расцвету личности и ее адаптации в быстро изменяющихся социальных условиях. Таким образом, внутри понятия «образовательная безопасность» общее образование рассматривается как главный инструмент достижения не только профессиональной компетенции, но и понимания глубинных, сущностных оснований и связей между разнообразными процессами окружающего мира. Широкое базовое общее образование способствует достижению качественно иного уровня культуры рационального мышления, оказывающего плодотворное влияние не только на проблемы профессиональной, то есть всегда локальной, области знаний, но и на всю сферу познавательной деятельности. Общее образование дает стержневые, системообразующие представления. Оно должно быть целостным, а не разорванным на профессиональные «лоскуты». Образовательная безопасность может быть гарантирована только при том условии, что общество и государство понимают: культура, образование и профессия - это единое целое, нерасторжимое триединство.
Очевидно, что образовательная безопасность имеет свои уровни. И. Майбуров выделяет 3 уровня безопасности образовательной системы - нормальный, предкризисный и кризисный.
Нормальное состояние образования характеризуется отсутствием угроз развитию образования или таким слабым их влиянием, которое упреждается плановыми действиями системы управления либо рыночными регулирующими процессами. Предкризисное - существенным их воздействием, что сопровождается заметным снижением эффективности работы системы и как результат - необходимостью принятия срочных, порой высокозатратных мер по их нейтрализации и устранению. Для кризисного состояния характерно значительное ослабление сопротивляемости угрозам, поэтому, чтобы вывести систему из такого положения, требуется не только существенная помощь государства, но и значительная мобилизация собственных ресурсов, что уводит ее далеко в сторону от оптимального состояния функционирования [6; 19-20].
Внутри зон предкризисного и кризисного состояний И. Майбуров считает целесообразным выделить еще 3 подзоны (подуровня), различающиеся стадиями углубления кризиса: начальная, развивающаяся и критическая - для пред-кризиса и нестабильная, угрожающая и чрезвычайная - для кризиса [6; 20].
Ориентация российского образования в целом и высшего профессионального образования в частности на подготовку узких специалистов свидетельствует, по нашему мнению, как минимум о нестабильном, а может быть, и об угрожающем подуровне общего кризиса образовательной безопасности.
В связи с этим должны быть выработаны комплексы показателей (индикаторы) и методики определения уровня безопасности каждой составляющей образовательной системы (среднее общее, начальное, среднее и высшее профессиональное образование). И. Майбуров предлагает методику диагностирования уровня безо- пасности высшей школы. Процедура диагностирования, считает исследователь, должна включать в себя следующие этапы:
-
1. Определение и классификация угроз развитию системы высшего профессионального образования.
-
2. Определение и группировка объектов мониторинга системы высшего профессионального образования.
-
3. Формирование совокупности индикативных показателей и блоков, необходимых для мониторинга и диагностирования состояния высшей школы на территориях.
-
4. Определение уровней (зон) кризисности состояния высшей школы на территориях в целом и по отдельным индикаторам.
-
5. Установление пороговых уровней кризисности для индикативных показателей состояний высшей школы с учетом районирования территорий.
-
6. Расчет индикативных показателей состояния высшей школы.
-
7. Оценка кризисности состояния высшей школы с учетом районирования территорий по индикаторам, блокам и ситуации в целом.
-
8. Анализ результатов диагностирования высшей школы.
-
9. Разработка адресных программ, повышающих уровень безопасности высшей школы на конкретной территории.
Следует заметить, что индикативные показатели (всего их исследователем предлагается 37) разработаны на основе традиционных показателей, входящих в систему федеральной и/или региональной статистической отчетности. Позиция И. Майбурова, по нашему мнению, весьма уязвима, так как состав индикативных показателей и блоков для диагностирования уровня безопасности высшей школы, предложенный им, учитывает исключительно количественные характеристики образовательного процесса и никаким образом не затрагивает его содержание, его конечный «продукт» – научный и культурный уровень подготовки выпускника.
Критическое же состояние безопасности высшего профессионального образования, как и любого другого уровня образования, определяется все-таки, на наш взгляд, не столько его количественными, сколько качественными показателями. Задача состоит в том, чтобы разработать методику измерения качества образования. Эта методика, безусловно, должна ориентироваться не на количественные показатели образовательного процесса, а на определение уровня его содержания и уровня овладения этим содержанием обучающимися. Это сложная задача, так как качество в данной ситуации измерить значительно труднее, чем количество. Часть исследователей (А. Л. Андреев, А. Я. Флиер), и мы присоединяемся к этому компетентному мнению, ставит проблему необходимости определения культурной компетентности выпускников высшей профессиональной школы. Эта сложнейшая проблема может быть решена только комплексно, при условии взаимного сотрудничества специалистов разных областей.
Мы считаем, что сегодня России нужна продуманная национальная стратегическая доктрина в области обеспечения образовательной безопасности, ориентирующая государственную политику на приоритетное развитие образовательной сферы, потому что система образования:
-
• обладает способностью активно воздействовать на развитие материального и духовного производства,
-
• формирует основную силу общества – работников производства,
-
• оказывает активное воздействие на процессы изменения социальной структуры,
-
• является важным средством передачи молодежи нравственных ценностей, выработанных предшественниками,
-
• формирует политические взгляды людей и прививает первоначальные навыки общественной деятельности, дает им основы политической и правовой культуры.
Национальная безопасность России напрямую зависит от того, какое образование получит молодежь страны в новом тысячелетии, каковы будут ее культурные ценности и идеалы, уровень общей культуры и профессиональной подготовки.
Мы показали, что одной из серьезных опасностей, реально угрожающих сегодня национальной безопасности России в целом, является разрушение культурообразующего ядра современного отечественного образования, превращение его в узкоспециальное. Сложилась объективная необходимость включить в понятие «национальная безопасность», традиционно объединяющее лишь политическую, военную, техногенную, экологическую, экономическую составляющие, такую компоненту, как духовная и образовательная безопасность.
Если под духовной безопасностью социологами понимается «система условий, позволяющая культуре и обществу сохранять свои жизненно важные параметры в пределах исторически сложившейся нормы», то понятие «образовательная безопасность» пока в социологии не определено. Мы предлагаем свое понимание этой дефиниции как охраны и обеспечения нормального функционирования системы образования в вузах, главного механизма культурного воспроизводства общества. Мы считаем духовную и образовательную безопасность необходимым условием устойчивого культурного воспроизводства.
Образовательная безопасность имеет свои уровни (нормальный, предкризисный и кризисный). Необходимы срочные меры по разработке методики диагностирования этих уровней. Нас, в частности, особо интересует методика определения уровня безопасности высшей школы. Как мы установили, предлагаемый социологами набор индикаторов сосредоточен лишь на измере- нии количественных показателей эффективности высшей школы, в то время как для определения уровня духовной (культурной) и образовательной безопасности гораздо более значимы качественные показатели. Главной задачей здесь, на наш взгляд, становится разработка методики определения культурной компетентности. Первым шагом на этом пути, по примеру развитых стран, должно стать принятие национальной стратегической доктрины в области обеспечения образовательной безопасности.
Российская образовательная система на протяжении долгого исторического времени успешно объединяла в себе общую и профессиональную составляющие и вследствие этого была основным каналом культуропередачи. Разрушение этой органической взаимосвязи наблюдается с начала ХХ века. Тем не менее в течение всего столетия в отечественной науке и культуре отстаивалась идея соединения в содержании образования профессионализма и общей культуры. Несмотря на это, в начале ХХI века образование в России во многом не соответствует требованиям устойчивого культурного воспроизводства. Это детерминировано тем, что рыночные отношения в конце ХХ – начале ХХI века диктуют жесткие требования к уровню профессиональной подготовки. Под их воздействием из содержания обучения специалиста буквально «вымываются» общекультурные, гуманитарные знания, берется курс на узкую специализацию, то есть исключительно на техногенное образование. Таким образом, в начале ХХI века система высшего профессионального образования существует в деформированном виде, что подрывает самый главный механизм культурного воспроизводства.
Анализ современного состояния российской государственной образовательной политики приводит нас к выводу, что на государственном уровне эта проблема не актуализирована, государство не принимает никаких действенных мер к ее решению, не учитывает возможности образования сохранять и утверждать смыслообра- зующие координаты культурной системы и не рассматривает систему профессиональной подготовки в качестве эффективного инструмента геополитики и обеспечения культурного воспроизводства российского общества. Политика государства в области образования носит более декларативный, чем деятельный и преобразующий характер. В государственной образовательной политике экономическое развитие не инте-риоризировано развитием и реформированием российского образования, в том числе и высшего профессионального образования. При этом опыт развитых стран, за короткое время достигших больших успехов в области экономики, показывает, что именно развитие культурно и национально ориентированного образования стало главной детерминантой и ведущей предпосылкой их экономического успеха, прогресса и национальной и государственной безопасности.
Отсюда логически вытекает необходимость рассматривать духовную и образовательную безопасность как значимые составляющие не только экономической, но и национальной и государственной безопасности в целом. Социологическая наука, определив содержание духовной (культурной) безопасности, пока еще не выработала отчетливого представления об образовательной безопасности как ее доминанте. В качестве рабочего мы предложили свое понимание этой категории: охрана и обеспечение нормального функционирования системы образования как главного механизма культурного воспроизводства общества.
Обозначены уровни образовательной безопасности (нормальный, кризисный и предкризисный), их подуровни (начальный, развивающийся и критический – для предкризиса и нестабильный, угрожающий и чрезвычайный – для кризиса). По предложенной классификации, состояние российской высшей школы в силу ее направленности на узкую специализацию и отстраненности от проблем культурного воспроизводства может быть оценено как нестабильное, а может быть – и как угрожающее.
Список литературы Духовная безопасность и формирование национальной идентичности
- Болотин И., Митин Б. Образование и национальная безопасность России//Высшее образование в России. 1997. № 1. С. 14-20.
- Возьмитель А.А. Духовная безопасность: актуальные теоретико-методологические и практические вопросы//Безопасность Евразии. 2005. № 3. С. 229-251.
- Жуков В.И. Университетское образование: история, социология, политика. М.: Изд-во РИЦ ИСПИ РАН, 2003. 331 с.
- Запесоцкий А.С.Гуманитарная культура и гуманитарное образование. М.: ИГУП, 1996. 322 с.
- Заславская Т.И. Человеческий потенциал в современном трансформационном процессе//Общественные науки и современность. 2005. № 4. С. 20-43.
- Майбуров И. Диагностирование состояния высшей школы на территориях//Alma mater. 2002. № 12. С. 19-26.
- Миронов В.Б.Век образования. М.: Педагогика, 1990. 175 с.
- Отюцкий Г.П. Проблемы духовной безопасности в современной России//Национальная безопасность: политико-правовые вопросы. М.: Российская правовая академия МЮ РФ, 2008.