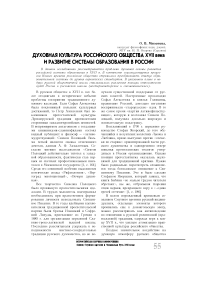Духовная культура российского общества ХVII века и развитие системы образования в России
Автор: Мизонова Ольга Викторовна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Материалы всероссийской научной конференции "Конец смутного времени и Московская Русь XVII века"
Статья в выпуске: 4 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
В данном исследовании рассматривается проблема духовной основы развития российской системы образования в XVII в. В контексте социокультурных процессов Нового времени российское общество стремилось преобразовать статус образовательной системы до уровня европейских стандартов. В указанном плане в недрах русской общественной мысли сталкивались различные позиции относительно судеб России и российской школы (вестернизаторские и «почвеннические»).
Хvii век, духовная культура, российское общество, симеон полоцкий, атомизация нравственной культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/14720581
IDR: 14720581 | УДК: 130.2:37"16"
Текст научной статьи Духовная культура российского общества ХVII века и развитие системы образования в России
В русском обществе к XVII в. все более отодвигали в историческое небытие проблемы восприятия традиционного духовного наследия. Если Софья Алексеевна была поклонницей польских культурных достижений, то Петр Алексеевич был поклонником протестантской культуры. Древнерусской традиции противостояли сторонники западноевропейских ценностей. В непримиримом антагонизме с тогдашними книжниками-славянофилами состоял видный публицист и философ — «латиномудрствующий» Симеон Полоцкий. Весьма четкой является оценка отмеченного деятеля, данная А. Ф. Замалеевым. Согласно мнению исследователя «Симеон Полоцкий действительно тяготел к западной образованности, фактически став первым из светских профессиональным писателем в Московском государстве [1, с. 164]. Среди его сочинений особенно выделяются поэтические своды «Рифмологион», «Вертоград многоцветный», «Вечеря душевная».
Все творчество Симеона Полоцкого было проникнуто просветительскими идеалами. В трудах мыслитель подчеркивал необходимость при нравственном формировании личности использовать Священное Писание. В те годы идейными вдохновителями традиционной просветительской партии были братья Иоаникий и Софроний Лихуды, приехавшие из Греции в 1685 г. для организации церковной Славяно-греко-латинской высшей школы. Последние рассчитывали удержать в неподвижности мистико-созерцательные традиции русского духовенства, но не по- лучали существенной поддержки от русских властей. Настроенные прозападно Софья Алексеевна и князья Голицины, правившие Россией, довольно негативно воспринимали «старорусские» идеи. В то же самое время «партия латинофильству-ющих», которую и возглавил Симеон Полоцкий, получила довольно широкую и основательную поддержку.
Возглавивший в 1700 г. церковное руководство Стефан Яворский, до того обучавшийся в иезуитских коллегиях Львова и Люблина, прямо выступил против «отечески по старине» ориентированной части русского духовенства и одновременно отверг попытки протестантских теологов утвердиться в России организационно. Однако позиция протестантизма оказалась неуязвимой для традиционной критики. Нужно было радикально пересмотреть сложившееся тогда богословское отношение к Священному Писанию. Это и было сделано Стефаном Яворским, который заявил, что книги Библии «не малым трудом читателя обретают», вы же, отбрасывая творения отцов церкви, превращаете веру в «...едино ересей стечение» [1, с. 186].
В целом порожденный кризисным сознанием Смутного времени русский индивидуализм, отдельные элементы которого проявились еще в домонгольскую эпоху, можно рассматривать как антиповедение по отношению к русской религиозной (православной) традиции, одержал верх к концу XVII в., что усилило атомизацию нравственной культуры российского общества.
Позднее значительное воздействие на духовную атмосферу русского общества оказал сложный системный кризис ценностей, разразившийся в стране в конце XIX — начале XX в. Первой его частью был кризис гуманистических ценностей, разрыв свойственного им единства идей истины, добра и красоты. Его истоком было несоответствие общечеловеческих идеалов Нового времени в Европе. О его проникновении в Россию говорил огромный интерес к книгам А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, а также судорожные попытки народников найти пути примирения общинных ценностей под воздействием буржуазных отношений, наступлений городской культуры. Выход из кризиса в каждом случае можно было искать как на путях консервации старого, так и на путях развития нового. Значение выбора было огромно, так как он определял этнопсихологическую доминанту нравственной культуры общества.
Действительно, начавшееся к концу XIX в. «сексуальное раскрепощение» должно было найти какой-то исход и нашло его в теориях «сексуализма», столь широко оправдывавших «содомо-гоморрскую» стихию, поскольку принципом становится: «Заниматься сексом лучше, чем его сублимировать».
В лоне такого направления культурного развития и появляется новый тип личности «Эры Водолея», которая соответствует духу времени. Как пишет Р. Г аль-цева, «Такого низменного идеала человечество еще не выдумывало... если отбросить идеологический антураж, герой соцреализма по сравнению с “расвобожден-ным” персонажем 1990-х годов — это все равно что Персей супротив Медузы-Горгоны... В лице образцового “сексуального партнера” представляет беспрецедентно дегуманистический, предельно антагонистический традиционному в русской культуре.» [2, с. 128].
В современной культуре мы становимся наблюдателями того, как меняется ее языковая семантика, как пытаются сбросить все достижения и ценности духовнонравственного наследия. Как подметил В. С. Библер, личность современного общества мыслит на «...той безобъемлемой грани, которая внекультурна и внутри- культурна...» [3, с. 46]. Стихия темной религиозности, на которой замешаны современные направления в музыке (хиппи, рок, панки и т. д.), напоминают духоборов-трясунов или хлыстов, доводивших себя плясками до «вакхического опьянения» во имя того, чтобы освободиться от сознательного переживания действительности. Этот ритмический токсикоз, сродни наркотическому, выдает себя за мистическое состояние, которое реально можно назвать одержимостью (психическим сдвигом).
Постмодернизм как общекультурное течение получил такое распространение и потому, что слишком слаба и даже не осуществлена в современных реалиях культурного развития российского общества нравственно-конфессиональная культура, которая основаниями исходила бы из непреходящих ценностей духовно-нравственного наследия древнерусского общества.
В этой связи особенно значимым при анализе современного положения традиций православной культуры является их нравственно-регулятивная функция. В этом плане древнеправославная святоотеческая традиция имеет универсальный и этико-психологический вектор воздействия: «исцеление души человеческой». Эта особенность духовной культуры особенно четко была отмечена в памятниках патристической религиозной литературы. Вот как о необходимости веры как явления нравственной культуры человека писал св. Иоанн Дамаскин: «.вне веры спастись невозможно».
Трудно не согласиться с мыслью, высказанной современным отечественным философом В. Н. Шердаковым о том, что уже в новозаветных текстах отмечается нравственная ценность веры: «Добродетельный образ жизни вытекает из веры...» [4]. Отмеченная особенность духовной жизни россиян, которая продолжала бытие как в европейской, так и в русской традиции духовных деятелей.
Нравственный потенциал российской духовной традиции и ее многоаспектные возможности в духовном совершенствовании человека и общества не вызывают сомнений. По мнению П. А. Флоренского,
«Религия... спасает нас, спасает наш внутренний мир от таящегося в нем хаоса.» [5, с. 132]. Те ценностные категории, что исконно признавались православной этикой святых отцов: любовь, добротолюбие, человеколюбие, красота души, трезвение и ряд других являются как никогда актуальными.
В целом можно отметить то, что семидесятилетнее воздействие антирелигиозной кампании, хотя и не одолели всего, что ассоциировалось с духовным наследием отечественной культуры, ликвидировали в последней значительный пласт нравственно-конфессиональной культуры и ее практическое воплощение. В настоящий момент вновь возрождаются монастыри, из руин поднимаются церкви. После празднования 1000-летия Крещения Руси отмечается довольно существенный приток в церковь масс верующих. Однако не стоит забывать, что пересаживать из прошлого достижения православной культуры практически невозможно, впрочем, как и слепо копировать достижения соседствующих культур. Важно ее воссоздавать в настоящем.
Важным фактором в указанном плане является фактор образования и просвещения российского этноса. Рационалистические тенденции к традициям российской науки и школы были заложены к концу XVII в.
Методологической основой модернистских моделей непрерывного образования выступают философские категории непрерывности, взаимосвязи, интеграции, преемственности, единства, системы, функции, свободы, самореализации и др. Теоретической основой концепции непрерывного педагогического образования также являются психолого-педагогические исследования в области мотивационносмысловых основ овладения педагогической профессией, понятие «личность» как субъект профессионального выбора, становления и совершенствования.
Непрерывное педагогическое образование как культуротворческая и духовная модель требует в результате от выпускника способности к творческому саморазвитию, к воспроизведению и трансляции культурного опыта, умения переработать педагогическое знание в ценностно-ориентированное, где эталонным образцом развивающейся личности являются творчество, свобода, гуманность, толерантность по отношению к детям и взрослым.
Ведущими подразделениями высшей школы традиционно оставались университеты, однако в систему дореволюционного российского образования входили также высшие курсы, академии, ряд высших училищ, народные университеты. Первые высшие женские курсы были открыты в 1869 г. Они осуществляли подготовку врачей, учителей, гувернанток. Развитием женского высшего образования занимались выдающиеся исследователи-историки, В. И. Герье и К. Н. Бестужев-Рюмин, открывшие высшие женские курсы в Москве и Петербурге [6, с. 21].
В дореволюционной России существовала еще одна достаточно распространенная форма вузовского образования — так называемый народный университет. Целью создания такого рода университетов рассматривалась необходимость поддержки и закрепления интереса народа к знаниям и культуре. Этот уровень образования, как правило, предоставлял подготовку на двух отделениях: — академическом и просветительском. Первое было ориентировано на обычные программы высшего образования, второе — на научно-популярное изложение достижений науки и техники, с обучением в свободное от основной занятости время.
Идея открытия университетов в Москве, Астрахани, Киеве, Петербурге изначально принадлежала выдающемуся немецкому философу Готфриду В. Лейбницу, убеждавшему Петра I в необходимости «развития просвещения в России». М. В. Ломоносов, получивший образование в Марбургском университете Германии, по духу и интересам оставшийся глубоко русским человеком, существенно усилил и укрепил эту идею, поставив задачу открытия университета именно в Москве как историческом и культурном центре Российского государства.
Московский университет начиная с периода становления обладал своей специ- фикой по сравнению с укоренившимися организационными правилами старых европейских университетов. Фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам все студенты начинали, обучаясь первоначально на философском факультете [6, с. 7—8]. В дальнейшем, в зависимости от интересов, можно было продолжить обучение на любом из трех открытых факультетов: на том же философском, а также на юридическом и медицинском. Преподавание велось как на латыни, так и на русском языке. Богословский факультет и преподавание богословия отсутствовали, так как Славяно-греко-латинская академия, давшая российской высшей школе две ветви образования — светскую и духовную, и в дальнейшем осуществляла необходимую для принятия сана подготовку.
В соответствии с программой, разработанной М. В. Ломоносовым, общеобразовательная ступень захватывала 3 первых года обучения, стадия специализации — 4 года. Демократическая ориентация университета состояла в том, что правом поступления в университет обладали представители всех сословий, за исключением крепостных. Большинство студентов и преподавателей были разночинцами. Из 26 русских профессоров, преподававших в Московском университете до конца XVIII в., только трое были из дворян. Первоначально обучение студентов было бесплатным, затем частичная оплата все же была введена, однако от нее по-прежнему освобождались неимущие студенты. Государственные ассигнования, лишь частично покрывавшие нужды университета, дополнялись пожертвованиями меценатов и бывших выпускников [6, с. 9].
В Московском университете были открыты первая отечественная типография и книжная лавка, единственная в то время публичная городская библиотека», издавались первая неправительственная газета и журналы. В 1804 г., с принятием университетского устава, автономия университета была значительно расширена. Ректор и деканы избирались на выборной основе. Книги, одобренные Советом профессоров, освобождались от общей цензуры. Однако, проблема академической автономии выходит далеко за пределы Московского университета. Российская высшая школа, система отечественных университетов вступили в стадию интенсивного расширения. В 1802 г. открывается Дерптский, в 1803 г. — Виленский, в 1804 г. — Казанский, в 1805 г. — Харьковский, в 1817 г. — Варшавский, в 1819 г. — Санкт-Петербургский университеты, в 1811 г. — Царскосельский лицей. Преобладающее большинство профессоров этих университетов составили выпускники Московского университета [6, с. 14]. Состояние образования в современном мире сложно и противоречиво. С одной стороны, образование в ХХ в. стало одной из самых важных сфер человеческой деятельности; огромные достижения в этой области легли в основу грандиозных социальных и научно-технологических преобразований. С другой стороны, расширение сферы образования и изменение ее статуса сопровождаются обострениями проблем в этой сфере, которые свидетельствуют о кризисе образования. И, наконец, в последние десятилетия в процессе поисков путей преодоления кризиса образования происходят радикальные изменения в этой сфере и формирование новой образовательной системы.
«В России образование ценно само по себе, но сильна ориентация на запад», — читаем мы у П. Я. Чаадаева в «Философских письмах». К. Д. Ушинский, рассматривая основания развития русской школы, пришел к парадоксальному выводу: русская школа воспитывает человека с германским мировидением. Для руководителей школы России, но не русской, это не составляло проблемы, а для К. Д. Ушинского это было свидетельством трагедии воспитания и образования России. Суть дела в том, что и наука, и культура в целом, соответственно и педагогика, не могут быть общечеловеческими (К. Д. Ушинский, Н. Я. Данилевский, Ю. Ф. Самарин, Э. Шпран-гер, М. Шелер). Если задачами образования в школе и просвещения в вузах становятся формирование общечеловеческой духовной культуры, т. е. заимствованной у других народов, то воспитание и обучение приводят к «развитию репродуктивной способности интеллекта и утрате его продуктивно-творческой способности», — так оценивает проблематику высшей школы современный ученый А. А. Г агаев [7, с. 72].
Эти характеристики состояния зарубежного и отечественного университетского образования отражают проблемы кризисного этапа развития как общества, так и его подсистем. Однако констатация неблагополучия усиливает деятельностную мотивацию на изменение сложившейся практики и поиск новых решений.
Рассматривая этапы становления высшей школы на западе и в России, можно сделать следующие выводы:
-
— выполняя традиционно функцию передачи культурного наследия, вуз формирует социально-одобряемые стереотипы поведения человека, своего рода нравственный идеал эпохи (для Античности это образ ритора, для Средневековья — теолога, для Возрождения — гуманиста, для Нового времени — джентльмена, для Новейшего времени — исследователя и общественного деятеля);
-
— гармоническое развитие высшей школы возможно при достижении сбалансированности между процессами образования, исследования и воспитания;
-
— специфика отечественной высшей школы заключается в изначальной установке на развитие духовности в человеке в отличие от прагматической ориентации Запада.
Подводя итог сказанному, важно отметить тот факт, что, несмотря на потрясения, которые испытали за последние десятилетия русская культура, общество, церковь, православно-этическое наследие византийской святоотеческой традиции остается как никогда актуальным. Именно в области конфессиональной культуры существует возможность обрести те идеи нравственности и единения общества, что исконно питали русскую духовность, как в старину говорили, «душу Руси», определяли российскую специфику развития культуры и народного самосознания. Многовековая связь отечественной нравственной культуры с христианским наследием определила, если учитывать ряд особенностей социокультурного развития России в XVII—XXI вв., следующие специфические черты духовной ситуации в современном российском обществе: 1) двойственный коллективизм, подразделяющийся на общинный коллективизм (общинность) в отношениях между ближними (прежде всего в трудовых) и тот «объединяющий» коллективизм в отношениях между дальними (гражданские отношения), что особенно проявляется при экстраординарной обстановке (войны, катастрофы и т. д.); 2) способность уживаться с другими народами, их идеями и системами ценностей; 3) поиск «справедливого порядка» в общественных связях; 4) понимание труда как служения народу, стремление к равенству; 5) приоритет духовных ценностей над материальными.
Список литературы Духовная культура российского общества ХVII века и развитие системы образования в России
- Замалеев А. Ф., Овчинникова Е. А. Еретики и ортодоксы: очерки древнерусской духовности. -Л.: Лениздат, 1991. -207 с
- Гальцева Р. Это не заговор, но…//Новый мир. -1998. -№ 1. -С. 128-145.
- Библер В. С. Нравственность. Культура. Современность//Этическая мысль: науч.-публиц. чтения. -М.: Прогресс, 1990. -С. 16-57.
- Шердаков В. Н. Иллюзии добра: моральные ценности и религиозная вера. -М.: Политиздат, 1982. -287 с.
- Флоренский П. А. У водоразделов мысли. -М.: Правда, 1990. -Т. 2. -447 с.
- Новиков Н. Исходные парадигмы русской социологии//Свобод. мысль. -1993. -№ 6. -С. 6-22.
- Гагаев А. Философия школы России в культурно-исторической традиции//Nоta bene. [Саранск] -2001. -№ 4. -С. 72-73