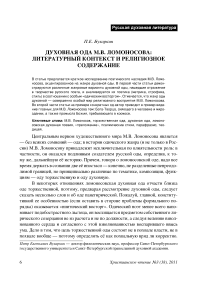Духовная ода М.В. Ломоносова: литературный контекст и религиозное содержание
Автор: Бухаркин Петр Евгеньевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Русская духовная литература
Статья в выпуске: 3 (38), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье предлагается краткое исследование поэтического наследия М.В. Ломоносова, акцентированное на жанре духовной оды. В первой части статьи демонстрируются различные жанровые варианты духовной оды, нашедшие отражение в творчестве русского поэта, и анализируется их поэтика (метрика, строфика, стиль) в соотношении с особым «одическим восторгом». Отмечается, что жанр оды духовной — совершенно особый мир религиозного восприятия М.В. Ломоносова. Во второй части статьи на примере конкретных од автор приводит в пример видение главных для М.В. Ломоносова тем: Бога-Творца, сияющего в человеке и мироздании, а также промысла Божия, пребывающего в космосе. К
М.в. ломоносов, торжественная ода, духовная ода, ломоносовская духовная поэзия, "преложение", псалмические стихи, парафразис, теодицея
Короткий адрес: https://sciup.org/140189922
IDR: 140189922
Текст научной статьи Духовная ода М.В. Ломоносова: литературный контекст и религиозное содержание
Её задача в другом — в обнажении сокрытой основы мира, субстанциального уровня его предметов и явлений. Через искаженные земной конкретикой образы идеальных сущностей ода проникает в самые эти сущности, обнаруживая внутреннюю красоту Вселенной, отражающую величие Творца 1 . Конечно, грандиозная эта задача — задача всего искусства, а не оды только, более того — это задача любого вида познавательной деятельности человека. Однако искусству отводится здесь особое по важности место: оно, возможно, успешнее, нежели что-либо другое доходит до искомого результата.
Созерцание такой гармонии и вызывает восторг, в оде достигающий предельной своей интенсивности, что и делает оду иерархически маркированным жанром. Применительно к торжественной оде гармония обнаруживается в плоскости исторического существования: торжественная ода за реалиями государственной жизни ощущала наиболее близкие к совершенству виды её существования, то, что приближается к идеалу — насколько он достижим в условиях земного бытия. Обнаружение в действительности идеальной составляющей, точнее — прозрение в ней идеального — требовало огромного внутреннего напряжения, следствием которого было парение одического поэта. Он воспарял в искреннем восторге перед представавшей его умственному взору картиной, ощущая трепетную радость перед раскрывавшейся — пусть лишь в качестве возможности — гармонией исторического бытия.
Духовная ода в данном отношении не противостоит оде панегирической; она тоже направлена на выявление глубинных начал бытия и Вселенной, на обнаружение их благодатного источника. И её пронизывает некоторый вид восторга, достаточно вспомнить «Оду, выбранную из Иова», наполненную эмоционально напряженными картинами грандиозного Божественного всемогущества или же «Утреннее размышление о Божием величестве». Но, все же, это восторг другого порядка и рода — не перед Империей, но перед величием Творца, присутствие которого так ощутимо в жизни мироздания, и, может быть, еще сильнее и удивительнее — в личности отдельного человека. Это величие для М.В. Ломоносова очевиднее и бесспорнее идеальности Империи. Бог не требует комплиментар-ности, посему духовные оды трезвее и резче, в них не найти налета идеализиро-ванности и утопизма, которого пиндарическая ода далеко не лишена. Возможно, это обстоятельство и определило ту высокую оценку, какую дал им (в отличие от торжественных од) А.С. Пушкин. Кроме того, духовная ода в самой незначительной мере связана с придворной панегирической культурой, от которой ода торжественная, как известно, неотделима. Она в несоизмеримо большей степени обращена к внутренней жизни человека, нежели к социальной его активности. Этим, кстати, обуславливается особый лиризм духовной оды. Выше говорилось и о своеобразном лирическом пафосе торжественной оды; и в ней, несомненно, присутствует личностное начало: пронизывающий её восторг — это восторг отдельного человека, одический поэт не просто поёт совершенство Империи, он выражает свое ею восхищение2. Однако лиризм торжественной оды совсем особый, если так можно выразиться — сугубо исторический; непосредственно и прямо интимного содержания он лишен, точнее, интимным содержанием торжественной оды оказывается её социально-историософская проблематика. В духовной же оде речь идет как раз об интимных сторонах жизни, недаром при желании в них можно обнаружить автобиографические мотивы. Впрочем, «личные» темы ломоносовских духовных од правильнее было бы интерпретировать не как выражение в слове собственных неповторимых переживаний, но как размышление над внутренними событиями человеческого бытия вообще. Главное в них — это проблемы: греха и добродетели, гонений и воздаяния, справедливости, возмездия, милости. Смысл жизни и согревающая эту жизнь Божественная любовь — вот что наиболее важно для поэта. Последняя особо ощутима в парафрастических духовных одах, то есть в стихотворных переложениях псалмов, составляющих своего рода стержень духовной оды в целом. Впрочем, все духовные оды — вне зависимости от модификаций — обращены к Богу; в них проблемы рассматриваются строго под углом зрения Божественного присутствия в мире и человеческих попыток его прочувствовать и осознать. «Все вообще так называемые жизненные вопросы в таком контексте — вопросы человека, живущего жизнью перед Богом, к своему Богу»3. В некотором смысле можно сказать, что духовные оды располагаются в пространстве диалога человека с Творцом, что и делает их именно духовными — в самом точном значении данного слова, — а не философскими.
Духовная ода представляет собою в поэзии XVIII столетия явление достаточно сложное, и даже расплывчатое. Как только что было сказано, она вклю- чает — в качестве наиболее определенной и неоспоримой своей части — переложения псалмов. Кроме того, к духовной оде принадлежат строфические стихотворения на религиозные темы — если приводить примеры из позднейшего времени, то в первую очередь требуется назвать «Бог» или «Иисус Христос» Г.Р. Державина; религиозные медитации обнаруживаются и в поэзии середины XVIII в., например, они многочисленны среди духовных од А.П. Сумарокова. Впрочем, тут сразу же обнаруживается известная неясность — в частности, возникает вопрос о соотношении непарафрастических духовных од с одами нравоучительными; граница между данными феноменами весьма трудноуловима. Это, естественно, затрудняет осмысление духовной оды во всем многообразии её разновидностей, причем эти трудности усугубляются также сложными взаимоотношениями духовной оды с одой горацианской, и недостаточной прояс-ненностью вопроса о натурфилософской тематике духовной поэзии. Последний, как известно, имеет к М.В. Ломоносову самое прямое отношение, ему-то и принадлежат самые знаменитые натурфилософские оды XVIII столетия4.
Правда, применительно к ломоносовскому поэтическому наследству данные трудности существенно смягчаются тем обстоятельством, что сам М.В. Ломоносов (как и многие литераторы того времени) вполне определенно относил основные и важные для себя стихотворные произведения к тем или другим жанрам; в частности, нам известно, какие именно из них он квалифицировал как оды духовные — издавая в 1751 г. «Собрание разных сочинений в стихах и в прозе Михайла Ломоносова, книга первая», в первый его раздел («оды духовные») М.В. Ломоносов включил десять од: восемь парафрастических (переложения — «преложения», как называл их сам автор — семи псалмов: 1, 14, 26, 34, 70, 143 и 145 и нескольких глав (38, 39, 40 и 41) ветхозаветной Книги Иова) и две оды, условно говоря, богословско-философские (или даже — натурфилософские): «Утреннее размышление о божием величестве» и «Вечернее размышление о божием величестве при случае великого северного сияния». Кроме этих произведений М.В. Ломоносову принадлежат еще две бесспорные — так как тоже являются «преложениями» псалмов — духовные оды: опубликованный в качестве риторического примера (один из типов «расположения по силлогизму») в § 269 «Краткого руководства к красноречию…» 116 псалом и псалом 103, вернее, стихотворный парафразис первых шестнадцати псалмических стихов, следующие девятнадцать остались непереведенными на стиховой язык
М.В. Ломоносова. Оба этих сочинения не вошли в издание 1751 г.: 116 псалом, вероятно, по причине чрезвычайной краткости — это, вероятно, самый короткий псалом (всего два стиха), под пером М.В. Ломоносова он преобразился в четырехстишие; поэт ограничился его публикацией в тексте «Краткого руководства к красноречию…». 113 же псалом М.В. Ломоносовым был не только не напечатан, но, как только что говорилось, и не завершен 5 , впервые он появился в свет лишь в 1784 г., в первом томе «Полного собрания сочинений Михай-ла Васильевича Ломоносова», осуществленного Санкт-Петербургской императорской академией наук. К кругу духовной поэзии примыкает также и перевод оды Ж.-Б. Руссо «На счастие», хотя в нем едва ли не доминирует общественная (или, выражаясь более мягко, историософская) проблематика, направляющая этот вдохновенный образец ломоносовского поэтического творчества в сторону торжественной оды.
Итак, рассматривая ломоносовскую духовную оду, надо иметь в виду в первую очередь те произведения поэта, которые вошли в соответствующий раздел издания 1751 г. При вполне понятных различиях между ними — прежде всего обусловленных принадлежностью к двум различным типам духовной оды — парафрастической и, так сказать, духовно-философской — нетрудно, однако, заметить и объединяющие их начала. Во-первых, все они отмечены формальными признаками духовной оды, прежде всего, строфической формой: парафрастические оды написаны четырехстишной строфой, в пяти случаях из семи система рифмовки АвАв, в двух (26 и 143) соотношение женских и мужских клаузул оказывается обратным — аВаВ; в «Оде, выбранной из Иова» используется восьмистишная строфа АвАвССdd; в обоих же «Размышлениях» строфа включает по шесть стихов, причем, в «Утреннем размышлении…» видим чередование женских и мужских клаузул (АвАвcc), а в «Вечернем…» строго выдержана чисто мужская рифмовка (ававсс), что «образует еще большее ускорение, даже некоторую отрывистость строк» 6 . Строфическая форма и позволяет — в дополнение к жанровому обозначению автора — без всяких сомнений и безоговорочно отнести духовные стихотворения М.В. Ломоносова к духовной оде — напомним, что строфа — обязательный формальный признак этого жанра.
Во-вторых, ломоносовские духовные оды соизмеримы по своему объему. Естественно, они отличаются по количеству стихов, и достаточно сильно — самые длинные духовные оды М.В. Ломоносова — переложение 34 псалма и «Ода, выбранная из Иова» — насчитывают по 112 стихов, самая короткая — переложение 14 псалма — всего 20 стихов. Но подобная амплитуда колебаний, несмотря на свою широту, все же не отменяет принципа соразмерности: при всех количественных различиях, духовные оды не переступают — ни в ту, ни в другую сторону некоего предела, трудно определяемого в литературоведческих терминах, но, тем не менее, вполне ощутимого; все оды остаются в рамках, соответствующих определенной мере — мере «нормального», среднего стихотворения: ни нижняя, ни верхняя количественная граница не выводят духовные оды за данные пределы. Кстати, подобная «усредненность» в перспективе развития поэзии приобретает дополнительную и крайне значимую черту — она усиливает чувство принадлежности рассматриваемых текстов к лирике в узком её значении.
Соразмерность духовных од усиливается и их строфичностью: единообразие определяющего текстовую структуру композиционного принципа способствует смягчению количественных различий и усиливает ощущение соотносимости объема духовных од. Еще более важным оказывается третье обстоятельство, также относящееся к размеру — десять духовных од с несомненной очевидностью распадаются на три группы: первая (Псалмы 1, 14 и 145) включает стихотворения, колеблющиеся между 20 и 32 стихами, вторая (Псалмы 24, 143, «Утреннее…» и «Вечернее размышление…») — между 48 и 60 стихами, третья (Псалмы 34 и 70 и «Ода, выбранная из Иова») — между 96 и 112 стихами; промежуточных вариантов между этими достаточно четкими группами нет. С известным (и немалым) преувеличением, но можно все-таки сказать, что духовные оды оказываются представлены лишь тремя своими количественными вариантами; и это тоже способствует их соразмерности.
В-третьих, восемь из десяти духовных од М.В. Ломоносова написаны четырехстопным ямбом, одна (26 Псалом) — чередованием четырех- и трехстопного ямба, и одна (14 Псалом) — четырехстопным хореем. Подобное метрическое единообразие, смягченное двумя исключениями, а также ритмическими вариациями и интонационным многообразием, естественно, способствует единству всего корпуса ломоносовской духовной поэзии.
Только что выделенные факторы носят, при всей своей безусловной важности, отчасти внешний характер. Они касаются формального единства духов- ных од М.В. Ломоносова. Однако объединяющее их начало касается и вещей более сущностных, непосредственно связанных с поэтическим содержанием духовных од и даже с их внутренней формой. Прежде всего, данные оды близки друг другу своей проблематикой — имею в виду не вопросы духовной жизни вообще; то, что они непременно присутствуют во всех духовных одах, говорит лишь о их соответствии собственному жанру и, естественно, не свидетельствует ни о каких требующих отдельного разговора перекличках между отдельными произведениями. Нет, речь идет о близости несколько иного сорта: ломоносовские духовные оды обнаруживают серьезную философскую нагруженность, причем это относится не только к собственно философским одам («Утреннему…» и «Вечернему размышлению…») — философичность их содержания сама собой разумеется, но и к одам парафрастическим, а они могут и не быть столь философски насыщенными: общие проблемы бытия являются предметом переживания и осмысления далеко не во всех псалмах. М.В. Ломоносов же проявляет особую заинтересованность как раз в псалмах такого типа, в тех, в которые «вплетаются и размышления»7, таким, например, как псалмы 14 или 143, или же 103. Последний (к сожалению, как отмечалось выше, М.В. Ломоносовым до конца не переложенный в стихи) является одним из самых интенсивных по глубине и обобщенности направленной на всю Вселенную мысли во всей Псалтири; об этом, в частности, свидетельствует его подзаголовок в славянском тексте – «О мирстем бытии», то есть о существовании, устройстве, жизни мироздания в целом. Вообще, среди обсуждаемых в переложенных М.В. Ломоносовым псалмах вопросов, те, что связаны с натурфилософией, наиболее многочисленны, причем, псалмические натурфилософские темы разрабатываются им с предельным тщанием, иногда — более выразительно, нежели в самом псалме. Так, шестой стих 145 псалма — «сотворившего небо и землю, море и вся, яже в них, хранящего истину в век» — в ломоносовском парафразисе приобретает следующий вид:
Несчетно многими звездами
Наполнившего высоту И непостижными делами Земли и моря широту. (199)
Эта строфа легко обнаруживает немалую свою близость к «Оде, выбранной из Иова» и обеим собственно натурфилософским одам М.В. Ломоносова:
та же детализация, не лишенная своеобразной научной точности и, одновременно, взволнованное преклонение перед грандиозностью Творения, что и в них. Духовные оды М.В. Ломоносова — в обеих их разновидностях — действительно объединяются единством философской проблематики, находящей, при этом, одинаковое поэтическое воплощение.
***
Ломоносовская духовная поэзия обладает определенной цельностью, обусловленной, как мы могли увидеть, разнообразными причинами. Однако это целостность, при всей своей несомненности, совсем особого рода, она весьма относительна: вряд ли следует видеть в ней отчетливо организованное целое, сознательно построенное и подчиненное смысловому сюжету такой степени про-ясненности, что его можно эксплицировать 8 . Возможно и, наверное, даже должно говорить о едином смысловом и волевом пространстве духовных од М.В. Ломоносова, но это — не лишенное расплывчатости пространство семантического поля с его подвижными границами, а не строгая и целенаправленная структура; стихотворные образования гипертекстового типа (то есть циклы) возникают с их лирической сюжетностью в русской поэзии значительно позже и, как представляется, вне всякой связи с М.В. Ломоносовым. Впрочем, телеологичности его духовные оды, рассматриваемые как целое, не лишены; отнюдь, их пронизывает то же самое волевое усилие, что и оды торжественные — стремление обнаружить гармонические основы бытия, но не в историко-государственной сфере, как там, а в масштабах всего космоса, увиденного сразу же в двух возможных в данном случае ракурсах — как микрокосм и как макрокосм. Этот двойной взгляд и определяет основные полюсы ломоносовской духовной поэзии, которые, не выстраивая в ней, как отмечалось, никакого лирического сюжета, тем не менее, определяют её завершенность и, одновременно, внутреннее многообразие, придавая при этом ей крайнюю степень эмоционального напряжения, что и делает философские оды подлинно лирическими (о чем уже говорилось).
Космос как микрокосм, то есть как человек в его усилиях осознать собственную жизнь и окружающий мир, отражающийся в нем, обретая благодаря этому искомую им и ему — и миру — необходимую гармонию — таково, по существу, глубинное содержание ломоносовских псалмических од. Семь пере- ложенных МВ. Ломоносовым псалмов обнаруживают между собою немало отличий, и, все же, через них проходят некие общие темы — даже не темы, а начала, вообще свойственные всей Псалтыри. Это, во-первых, страстное желание правды, опять-таки, сразу же преломленной в двух плоскостях: правды применительно к отдельной личности, правды как праведности и, с другой стороны, правды в общественной жизни, правды как справедливости. Во-вторых, это осознание несоответствия этой правде опасности греха, легко возникающего в человеческой жизни: благочестие, к которому устремлен псалмический человек, трудно достижимо именно и едва ли не в первую голову из-за этого. В-третьих, тема несправедливого преследования, гонений со стороны «злых», обступающих человека со всех сторон и грозящих ему гибелью.
Словесные мотивы, порожденные воплощением данных начал в стихотворные произведения, наделены в переложениях псалмов интенсивностью различного порядка. Наиболее частотны и влиятельны (в смысле воздействия на смыслопорождение) — первый и, особенно, третий мотивные комплексы. Так тема правды (в обоих её вариантах) пронизывает преложение 1 псалма, она определяет поэтическое содержание 14 псалма, да и в других стихотворениях она проявляется весьма отчетливо:
Я только от Творца прошу, Чтоб в храм его вселиться... (Преложение 26 псалма, 186)
Язык мой правде поучится И истине святой твоей.
Тобой мой дух возвеселится
Чрез все число мне данных дней.
(Преложение псалма 34, 191)
Но я, о Боже, возглашу
Тебе песнь нову повсечасно;
Я в десять струн тебе согласно
Псалмы и песни приношу.
(Преложение 143 псалма, 198)
И примеры подобного рода легко увеличить. Еще резче бросается в глаза тема гонений, красной нитью проходящая через большинство преложений псал- мов и нередко формирующая верхний, а потому и самый явный их семантический уровень: нередко именно в нем и видят доминирующий в них художественный смысл, объясняя его автобиографическими причинами9.
Значительно менее явлен второй мотивный комплекс — несовершенства самого героя (то есть человека, раскрывающего в псалмах свою душу с её тревогами), его уступки греху. В отличие от других тем он дан скорее намеками, но, тем не менее, его присутствие, пусть и приглушенное, ощущаемое скорее в виде возможного, а не существующего, играет немалую роль. На данные смыслы ломоносовских псалмических парафразисов указывают, например, следующие стихи:
из 26 псалма:
От грешного меня раба. (187)
из 70 псалма:
И бренной сей и тленной груди. (191)
Или — целая строфа (тоже из 70 псалма):
О Боже мой, не удалися,
Покрой меня рукой своей
И помощь ниспослать потщися
Объятой злом душе моей. (192)
Все это формирует мерцающий, однако все же реальный поэтический смысл, связанный с осознанием греховности говорящего псалмическими словами человека. Данный смысл — уже в качестве контекста — начинает воздействовать на семантическое поле некоторых од в целом; прежде всего, это 1 и 14 псалом: путь грешных, о котором прямо, или в отрицательно-зеркальном отражении (праведник не делает того-то и того-то, что является уделом грешников) идет в них речь, начинает осознаваться и как потенциальная судьба самого героя; не просто какие-то люди живут так, подобная жизнь может стать и моим уделом.
Данные семантические линии в ломоносовских псалмических парафра-зисах существуют, естественно, не изолированно; напротив, они тесно и даже неразрывно в них переплетаются. Это и формирует самое общее художественное содержание парафрастических псалмов в целом, их, если так позволительно выразиться, сверхсмысл; его можно определить как попытку решить проблему соотношения зла и добра, то есть, учитывая характер ломоносовского мышления, как теодицею. Действительно, ломоносовские преложения псалмов являются теодицеей в самом точном значении данного понятия, то есть способом «согласовать идею благого и разумного Божественного управления миром с наличием мирового зла»10. Причем, в них преодоление мирового несовершенства, точнее, его своеобразное «снятие», обнаружение всеобъемлющности добра отнесено к человеку: как к человеческой душе, так и взаимоотношению «человеков» друг с другом.
Чрезвычайная резкость темы людской несправедливости и злобы, подстерегающей человека со всех сторон, привела в научной литературе к неоправданному преувеличению удельного веса данного содержательного комплекса в семантическом поле парафрастических од М.В. Ломоносова в целом: «современное общество в своих отношениях к человеку представляется М.В. Ломоносову стихией неразумности и корыстолюбия, миром зла» 11 . Но это, все же, вряд ли так — при очевидности зла, разлитого в человеческом сообществе и, добавлю, — в человеческой душе (хотя бы как потенция) — зло в парафрастических одах совсем не торжествует, напротив, оно преодолевается: «злобные руки» не в силах сокрушить правого, называющего Бога
Помощник мой и покровитель,
Пристанище души моей. (192)
Преступившие Божественный закон ничего с ним поделать не могут, они не в состоянии помешать ему:
Превозносить Твою [то есть Бога. — П.Б. ] державу
И воспевать на всякий час
Великолепие и славу. (192)
Более того, «неправедных» — то есть носителей и распространителей зла — ожидает возмездие, в конечном счете, им уготована гибель, в то время как «тот, кто ходит непорочно» (186) неизбежно восторжествует:
Счастлива жизнь моих врагов:
Но те светлее веселятся,
Ни бурь, ни громов не боятся,
Которым вышний сам покров. (198)
Получается, что участь праведного человека, в конце концов, счастливее видимого торжества грешников. Почему так происходит, в целом понятно: контекст Священного Писания, фрагменты которого (псалмы) и являются источниками парафрастических од определяет конечную победу добра; и все же остается некоторая недосказанность, которая увеличивает семантические потенциалы данных од, делая их смыслы не вполне договоренными, а, следовательно — динамичными, живыми в своей неопределенности. Не отменяя, при этом, известной их прозрачности
Идея торжества добра, значительно усиливается и заключающими раздел духовных од стихотворениями — «Утренним…» и «Вечерним размышлением…». К ним примыкает и «Ода, выбранная из Иова», парафрастическая по своей природе, но в отличие от переложений псалмов переносящая акцент с человеческой души на устройство Вселенной; в этих трех одах М.В. Ломоносов поэтически выражает самые общие свои представления о мироздании. Здесь его теодицея приобретает иной характер — от наиболее простой своей формы, связанной с несокрушимой верой в будущее торжество добра она движется к теодицее «эстетико-космологической» (С.С. Аверинцев), утверждающей, «что все частные недостатки космоса, запланированные художническим расчетом Бога, усиливают совершенство целого. Это уже не столько теодицея, сколько космо-дицея» 12 как раз в начале XVIII столетия и нашла наиболее отчетливое выражение, притом свой самый совершенный вид она обрела под пером Г.-Ф. Лейбница («Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и первопричине зла», 1710), одного из наиболее повлиявших (хотя, скорее и опосредованно) на М.В. Ломоносова старших его современников.
Нельзя сказать, чтобы Вселенная как макрокосм — а именно ей посвящены три интересующие нас сейчас духовные оды, в совокупности и формирующие второй полюс ломоносовской духовной поэзии — вовсе была бы лишена противоречий и неясности. Отнюдь, в ней многое вызывает недоумение, вполне созвучное беспокойству псалмических парафразисов о всеобщности зла. Своего рода аналогом этого зла людского сообщества становится — в масштабах всего мироздания известная его непонятность, предельная затрудненность постижения его законов — затрудненность столь значительная, что невольно вообще возникает сомнение в возможности понимания универсума, чему и посвящено знаменитое «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния». Но в той же самой мере, в какой несправедливости человеческой жизни не означают господства в ней зла, и во Вселенной непостижимые явления не суть свидетельства её хаотичности; Вселенная гармонична и совершенна полной соразмерностью всех своих элементов — и пречудным устроением каждого из них. Видение этого и наполняет духовные оды М.В. Ломоносова эмоциональной энергией любви и благодарности Творцу, которая оборачивается полным оправданием Божественного Промысла о Творении и, следовательно, глубоким и смиренным восторгом — восторгом перед тем «невероятным подарком» (В. Ходасевич) Бога человеку, каким начинает восприниматься жизнь — как жизнь отдельного человека, так и жизнь Вселенной. Совсем особый, этот восторг, тем не менее, абсолютно созвучен восторженному парению ломоносовских торжественных од.
Список литературы Духовная ода М.В. Ломоносова: литературный контекст и религиозное содержание
- Аверинцев С.С. Связь времен. Киев, 2005.
- Аверинцев С.С. София -Логос: Словарь. Киев, 2006.
- Алексеева Н.Ю. Русская ода: Развитие одической формы в XVII -XVIII веках. СПб., 2005.
- История русской литературы. Т. 3. М. -Л., 1941.
- Ломоносов М.В. Сочинения. Т.1. СПб., 1891.
- Луцевич Л.Ф. Псалтырь в русской поэзии. СПб., 2002.
- Серман И.З. Поэтический стиль М.В. Ломоносова. М. -Л., 1966.
- Серман И.З. Русский классицизм. Л., 1973.
- Чичерин А.В. Очерки по истории русского литературного стиля. 1977.