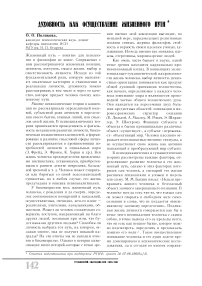Духовность как осуществление жизненного пути
Автор: Полякова О.О.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (6), 2006 года.
Бесплатный доступ
Жизненный путь, духовность, поступок
Короткий адрес: https://sciup.org/14720404
IDR: 14720404
Текст статьи Духовность как осуществление жизненного пути
Жизненный путь —понятие для психологии и философии не новое. Сопряженно с ним рассматриваются жизненная позиция, ценности, поступок, смысл жизни, выбор и ответственность личности. Исходя из той фундаментальной роли, которую выполняют означенные категории в становлении и реализации личности, духовность можно рассматривать в том числе и через то качество, которое придает человек своему жизненному пути.
Многие психологические теории и концепции не рассматривали определяющей волевой, субъектной роли личности в определении своего бытия, главных линий, или смыслов своей жизни. В психодинамических теориях принимаются врожденность и фатальность механизмов развития личности, биологическая имманентность ценностей, а формирование и развитие смысловой сферы личности рассматриваются в противостоянии потребностей личности и социальных норм (3. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни и др.). Вся жизнь человека предопределена врожденными инстинктами, установками, приобретенными в раннем детстве неврозами, базальной тревогой и т. д. Человек может смириться или бороться со своей подсознательной сущностью, но в любом случае, его жизнь предугадана и описана психоаналитиками.
У бихевиористов весь жизненный путь человека, с рождения и до смерти, определен соотношением поощрений и наказаний, осуществляемых, очевидно, кем-то извне — родителями, учителями, начальниками, обществом. Может ли человек сознательно совершить поступок, направленный на благо других людей, осознавая при этом, что будет наказан другими людьми? Способна ли личность выбрать тот путь, на котором, отдавая многое, она не получит никакой награды? На эти ответы мы не находим ответов в бихевиоризме. Однако в истории цивилизации много историй, которые с точки зре- ния именно этой концепции выглядят, по меньшей мере, парадоксально: религиозные подвиги святых, жертвы философов, стойкость и верность своим идеалам ученых, художников. Но ведь именно так менялись идеалы, стереотипы, мировоззрение людей.
Как очень часто бывает в науке, одной точке зрения находится кардинально противоположный взгляд. В концепциях экзистенциально-гуманистической направленности жизнь человека, выбор личности, ценностные ориентации понимаются как продукт общей духовной ориентации человечества, как начало, определяющее у каждого человека понимание мира и являющееся производной частью общего человеческого духа. Они находятся на пересечении двух больших предметных областей: мотивации и мировоззренческих структур сознания (В. Дильтей, А. Маслоу, М. Рокич, Э. Шпран-гер, Э. Шостром). Функции субъекта и объекта в бытии принципиально различны : объект «существует», а субъект «переживает» объективный мир. Человек пассивно отражает непознаваемые внешние стимулы, а не осуществляет свою жизнь как активно познающий и преобразующий мир субъект.
В психодинамических и гуманистических теориях рассмотрены важные факторы, определяющие развитие человека и его жизненный путь, однако в этих факторах потерялся сам человек, а сценарий его жизни расписан психологами и уложен в модель или схему. М. М. Бахтин писал: «Нельзя превращать живого человека в безгласный объект заочного завершающего познания. В человеке всегда есть что-то, что только сам он может открыть в свободном акте самосознания и слова, что не поддается овнеш-няющему заочному определению... Подлинная жизнь личности совершается как бы в точке этого несовпадения человека с самим собою, в точке выхода его за пределы всего, что он есть как вещное бытие, которое можно подсмотреть, определить и предсказать помимо его воли»1. Такое овеществленное понимание человека и его души долгое время доменировало в психологических исследованиях, да и сегодня во многом сохраня-
* Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 07-06-23605а/В.
ется. Слова и поступки живого реального человека объясняются «психологическими законами», в результате чего вместо души и личности со всем многообразием мыслей, чувств, переживаний, поступков мы получаем фактическую определенность, завершенную схему.
В советской психологии превалировала идея о том, что усвоение исторического опыта есть главный и единственный механизм психического развития человека. Однако если бы человеку не была изначально присуща способность к духовности, то никакие педагогические и культурные методы не смогли бы привнести ее в человека и культуру. Точно так же, как, по Гегелю, нельзя привнести духовность в собаку, дав ей пожевать напечатанный текст. Дух и культура не могут быть изготовлены, сделаны, они предполагают признание духовного как действительности в создающем и воспринимающем в субъекте. Человек уже рождается не животным, но человеком, еще только начинающим свой жизненный путь. С. Л. Рубинштейн утверждал, что мозг есть лишь орган (не источник) психической деятельности, а человек —ее субъект, существо сознательное, активное, совершающее жизненные выборы, несущее за них ответственность, строящее свою жизнь не только потому, что эту жизнь определило бессознательное или другой человек, или общество и культура, но и вопреки всему этому. Такой человек становится центром современной психологии, в частности нового и интенсивно развивающегося субъектного подхода, разрабатываемого в трудах С. Л. Рубинштейна, А. В. Брушлинского, В. В. Знако-ва, В. П. Зинченко, К. А. Абульхановой-Славской, В. А. Пономаренко, В. И. Слободчикова, А. Н. Славской, Е. А. Сергиенко, В. А. Барабанщиковаи др.
Важным методологическим положением субъектного подхода является значительное расширение психологических представлений об активности. В отличие от понятия «деятельности», где делается акцент на операционально-динамическую, орудийную и социальную нормативность, в понятии «активность» отражена способность субъекта к выходу за пределы заданных условий жизнедеятельности (инициатива, творчество, поиск, преодоление и т. п.). Активность —ти- пичный для данной личности, обобщенный ценностный способ отражения, выражения и осуществления ее жизненных потребностей (К. А. Абульханова-Славская). Вследствие человеческой активности мир (в рубинштейновском понимании) представляет собой бытие, изменяемое действиями субъекта, который, находясь внутри бытия и обладая психикой, сам творит свою жизнь в мире и понимает его. Такое понимание человека делает его творцом собственной жизни, а жизненный путь представляется как активное, творческое, сознательное осуществление личности в мире.
Субъектный подход рассматривает человека на высшем уровне своей целостности, системности и автономности. Субъект есть носитель своих психических свойств как жизненных возможностей. Любой, даже самый конкретный психический акт соотнесен с конкретным событием жизни и включен в общий контекст его развития. Субъект выполняет роль стержня, объединяющего различные проявления (компоненты, модальности) психики и уровни ее организации. Здесь видится альтернатива психодинамическим теориям: наделенный теми или иными врожденными особенностями, задатками, качествами и т. д. человек, являясь субъектом, распоряжается ими и всегда несет за это ответственность. Человек, страдающий неврозом в одном случае может пытаться найти его причину и избавиться от нежелательных симптомов и последствий, в другом же — пользоваться диагнозом и оправдывать им свое поведение и поступки, иногда неприятные или даже приносящие вред окружающим. Талант химика может быть использован для создания нового лекарства от серьезной болезни или же для производства синтетических наркотиков.
Другое важное положение субъектного подхода во многом определяется идеями онтологии этических и эстетических ценностей С. Л. Рубинштейна. Человек не просто является продуктом общечеловеческого духа, но сам творит эти ценности во взаимодействии с другими людьми, выстраивая таким образом свою жизнь. Ценностное богатство субъектного мира человека определено онтологической и аксиологической взаимностью с Универсумом. «Выключение» из бытия субъектности ведет к тому, что «...суще- ствуют только вещи и не существует людей, отношения между которыми осуществляются через вещи; даже в качестве “орудий” они функционируют якобы помимо людей» (С. Л. Рубинштейн). Таким образом, сами ценностные устремления человека призваны быть объективно укорененными, и это позволяет выйти за пределы как субстанциа-листского, так и антисубстанциалистского горизонтов. Психологическая природа субъекта наиболее полным образом раскрывается через такую совокупность его отношений к миру, которая включает признание права других людей на автономность, уникальность, независимость —субъектность. В отечественной психологии и философии в этой проблеме важна мысль о том, что ценностям нельзя научиться, ценности нужно пережить и выбрать. И в этом личность проявляет свою субъектность и духовность.
По В. Франклу, быть человеком —это находиться в отношении к чему-то, транс-цендировать. Только в этом случае жизнь человека приобретает новое качество, духовность. Свобода в отношениях означает их преломление через личностную позицию, состоящую в том, что человек сам решает и контролирует их воздействие на собственную жизнь, придавая им значение. Занять или сменить позицию —это и есть априорное человеческое качество, его самотрансцен-дированность. Человек несет ответственность «за осуществление смысла и реализацию ценностей»2.
В исследованиях К. А. Абульхановой-Славской определяется то основание, базис, те основные духовные принципы, на основе которых личность выстраивает свой жизненный путь. Это жизненная позиция, представляющая собой «...осуществление субъектом интеграла своего опыта, своих жизненных достижений, гармонически соответствующих его притязаниям и реальным личностным возможностям, способностям, индивидуально-сти»3 . В этом воплощаются достижения человека в объективном и в субъективном смысле, то, как он этого добился —в смысле моральной цены и личностных усилий. Ценностно-смысловая позиция как личностный семантический интеграл определяет интерпретацию сложившегося отношения личности с жизнью и непосредственное основание ее сознания, включает в себя динамические тенденции и личностные механизмы притязания, саморегуляцию и удовлетворенность. Являясь основой сознания, она определяет реальную интерпретацию, расстановку и композицию различных жизненных ценностей: в притязаниях воплощена ценность собственной личности, ее индивидуальность, в саморегуляции подтверждается ценность достигнутого «своими силами», выявляется соотношение ценности и усилий, затрат, «цена» достижений и потерь.
Ценностно-смысловая позиция, по А. Н. Славской, сотличае тся сот сотдельных субъективных интерпретаций, оценок, ценностей, смыслов, это «собственная концепция, в которой главное —установление семантики составляющих. В этой концепции личность произвольно соединяет разные области жизни, разнородные оценки, наблюдения, смыслы»4. В. В. Знаков также пишет о роли ценностно-смысловой позиции субъекта, «оказывающей решающее влияние на формирование смысла фактов, событий и т. д.»5. Е. Б. Старовойтенко понимает ценностно-смысловую позицию как жизненное отношение, реализующееся в разнообразных связях с миром: интеллектуальны х, предметно и социально преобразующих, нравственны х, эстетических, рефлексивных. «Каждую такую связь можно трактовать как определенную линию всечеловеческого, общественно-исторического и индивидуального становления, причастности бытию. Реализация этих линий отдельным субъектом означает построение им “своего мира”. В нем узнается, понимается, объясняется и общечеловеческое; личность вопрошает и самостоятельно судит о бытии,осваивая, овладевая вещно-социальным миром и изменяя его»6.
Для субъективности невозможно указать совокупность порождающих ее внешних причин, условий, обстоятельств, ибо ее природа и специфическое отличие от других явлений объективного мира состоят именно в отношении к ним, ко всему внешнему; ее специфика состоит в самопричинении, в самообус-ловленности. Построение субъектом «своего мира» происходит, когда субъективируются (воспроизводятся, усиливаются или разрушаются) общественные отношения в зависимости от исторически заданных форм, ограничений, противоречий индивидуальной жизни, от присутствующей в каждом чело- веке внутренней расположенности к преимущественному осуществлению той или иной линии развития. «Относящаяся» личность обнаруживает духовность как индивидуальное искание, открытие, воплощение и приближение к истине, в таком качестве развиваясь в личностном измерении.
Выстраиваемая субъектом единая жизненная линия состоит не просто в отделении значимого от незначимого, а в определении меры значимости, достойности и важности для себя лично, происходит самоопределение по отношению к жизни в целом, делается выбор жизненно-мировоззренческого масштаба. С.Л. Рубинштейн выделяет два основных способа существования человека и, соответственно, два отношения его к жизни. В первом случае «человек весь внутри себя, всякое его отношение —это отношение к отдельным явлениям, но не к жизни в целом». Второй способ связан с рефлексией, трансцендированием. С этого момента возникает проблема непосредственного отношения и осознанного человека к окружающему и людям, формируется обобщенное отношение к жизни, отражающее взаимосвязь настоящего, прошлого и будущего в жизни человека. Это отношение позволяет реализовать смысл человеческой жизни —быть преобразователем жизни, непрерывно ее совершенствовать.
Единство личности как сознательного субъекта, по С.Л.Рубинштейну, не являясь изначальной данностью и появляясь в растущей реальной самостоятельности индивида, выражающейся в изменении его взаимоотношений с окружающими, не исчерпывается способностью выполнять те или иные задания. Она включает более существенную способность самостоятельно, сознательно ставить перед собой те или иные задачи, цели, определять направление своей деятельности. Это требует большой внутренней работы, предполагает способность самостоятельно мыслить и связано с выработкой цельного мировоззрения.
Ценностно-смысловое обобщение личностью субъективных и объективных составляющих ее жизни находит свое отражение в понятии смысла жизни. Поиск смысла жизни, иногда очень болезненный и трагичный, свойственен лишь человеку, осознающему конечность и скоротечность своего бытия.
Через нахождение этого смысла личность осуществляет оценку возможностей самореализации, соотношения притязаний и результатов самореализации, соответствия ее уровня способу реально достигнутого в жизни. Глубина и масштабность жизненного проекта, его удовлетворенность и неудовлетворенность дают человеку силу и стремление достичь еще большего.
В концепции Л.С. Выготского сознание имеет смысловое строение. Динамическая смысловая система представляет собой единство аффективных и интеллектуальных процессов. Смыслы не только укоренены в бытии, но и опредмечиваются в действиях, в языке —в отраженных и порожденных образах, в метафорах, в символах. Сознание несводимо к своей структуре, иначе им бы обладали и автоматы, имеющие структуру, но не имеющие определенной задачи. Однако, из структуры выводятся важнейшие функции и свойства сознания как «интеллигибельной материи» (А.Ф.Лосев).
А.Н. Леонтьев определял «личностный смысл» «как отношение мотива к цели», считая, что это важнейшая образующая сознания, а личность рассматривается как многокомпонентное смысловое образование. Психологи нередко говорят о смысловом характере аффективности: эмоции (переживания) являются компонентом смысла, выполняющим определенную функцию в его формировании и последующем развитии. Эмоции ставят «задачу на смысл».
По В.В. Знакову «смысл жизни представляет собой такое ценностно-эмоциональное образование личности, которое проявляется не только в принятии одних ценностей и отрицании других, но и в саморазвитии, самореализации личностных качеств субъекта, ищущего и находящего «запредельный» смысл своего бытия» 7. В.А.Пономаренко определяет смысл как высшую ценность. «Человеческий дух, — пишет В.П.Понома-ренко, — это реальный опыт возвышенного психического состояния, возникающего не столько в результате действия, сколько в процессе постижения смысла своей деятельности. Само понятие «смысл» включает цель в ее духовном обрамлении» 8. Тогда дух — это «исторический опыт культуры семьи, общества, этноса, данный нам в чувственных переживаниях по отношению к другим людям, событиям, явлениям». Такие отношения направляются «духовным вектором», определяющим понимание субъектом своего места в создании ценностей.
Вопрос о смысле жизни, как писал С. Л. Франк, < «это £вопрос еесть £вопрос ссамой жизни, он... еще гораздо более страшен, чем при тяжкой нужде вопрос о куске хлеба для утоления голода». «Всякое дело, которое делает человек, есть нечто производное от человека, его жизни, его духовной природы; смысл же человеческой жизни во всяком случае должен быть чем-то, на что человек опирается, что служит единой, неизменной, абсолютно прочной основой его бытия»9. Важен не только и не столько сам факт наличия смыла жизни, но прежде всего содержательный момент: в чем именно этот смысл найден. Смысл жизни разный у разных людей в разные моменты жизни, поэтому нельзя найти общий ответ на вопрос о нем. Но потому смысл жизни и рассматривается как духовная составляющая, что каждый человек должен найти ответ на этот экзистенциальный вопрос сам для себя, в своей собственной жизни, причем решать этот вопрос каждое мгновенье своего бытия. «Смысл жизни, — писал С. Л. Франк, — нельзя найти в готовом виде раз навсегда данным уже утвержденным в бытии, а можно только добиваться его осуществления... Смысл нашей жизни должен быть в нас, мы сами своею жизнью должны являть его»10. Он должен быть одновременно благом и в объективном, и в субъективном смысле; и высшей ценностью, к которой мы стремимся ради нее самой, и ценностью, пополняющей, обогащающей самого человека. Смысл жизни — это последнее «ради чего», когда даже после всех потерь и страданий человек может переживать радость от осуществления этого смысла. Человек может осуществить собственные эгоцентрические цели, получить все удовольствия от жизни, стать богачом, но при этом чувствовать пустоту, потерянность и бессмысленность жизни, но в то же время, он может быть счастливым, будучи одетым в лохмотья и не имея крыши над головой, излечивая людей от тяжкий болезней и избавляя их от страданий. В. Франкл, пройдя испытание фашистским концлаге- рем, создал фундаментальное учение о смысле жизни как о необходимой человеческой потребности и способности, определяющей духовную сущность человека. Смысл жизни помогал выживать людям в нечеловеческих условиях, в ситуации тотального ограничения позволял сохранять свободу внутреннюю.
Многие психологи отмечают практическую значимость для человека потребности мыслить свою жизнь не как серию случайных, разрозненных событий, а как целостный процесс, имеющий определенное направление, преемственность и содержание. Эмпиричность жизни, по С. Л. Рубинштейну, не дает личности возможность выделить главное в жизни и в себе, что ведет к господству и смене частных смыслов. Наконец, неуспешность самореализации, превышение трудности жизни над личностными ресурсами, социальными умениями, зрелостью, разрушает смысл жизни механизмами защиты или проекции, что приводит к пессимизму, пассивности, размыванию чувства субъектности по отношению к собственной жизни. Б. С. Братусь пишет о поиске смысла жизни как насущной потребности, основанной на фундаментальном противоречии ограниченности индивидуального бытия и всеобщей родовой сути человека.
Наличие в человеческом бытии смысла и ценностей приводит к тому, что все окружающие человека объекты, явления, другие люди и отношения с ними, конкретные события оцениваются человеком с его собственной позиции, исходя из его собственного смысла. Так человек определяет, что добро и что зло, как нужно поступить в той или иной ситуации, какой из возможных выборов будет достоин жизненного смысла. Мир для человека становится значащим благодаря тому, что человек способен к его осмыслению. Знание человека не безлично. Любое знание сопряжено с отношением к этому знанию. Одна и та же информация может быть расценена человеком как важная и необходимая либо же как посторонняя и малозначимая; один и тот же поступок может быть расценен как добрый или злой. Поэтому и возникают экзистенциальные дилеммы типа «ложь во спасение»: либо ложь плоха сама по себе, поэтому нельзя лгать ни при ка- ких обстоятельствах, либо важно спасти человека и перед этой целью меркнут все другие принципы.
Жизненный путь личности выстраивается из поступков, о значимости которых писали М. М. Бахтин, В. В. Зинченко, В. И.(Слободчиков i:и;др. Поступки i:играют важную роль в становлении и проявлении ценностно-смысловой позиции, являясь условием роста и обогащения духа, образуя опыт человека. Эти идеи в современной психологии развивает В.П. Зинченко: «Ощущение, а затем и осознание своей жизни как подвига-поступка — это и есть, — пишет он, — начало формирования себя как свободной и ответственной личности»11. Введение в контекст психологии личности свободного, то есть независимого от внешней причинности, поступка обеспечивает определенный динамизм в познании феномена человека, которого психология слишком долго познавала как «остановленный текст природы», позволяет преодолеть био- или социогенетическую редукцию личности.
Поступки нельзя рассматривать отдельно друг от друга и от личности, они всегда связаны единой линией. «В своей совокупности, пишет П. П. Гайденко, — поступки человека имеют смысловую связь, которую нельзя рационально выявить в понятиях рассудка, и эта-то связь обусловлена умопостигаемым “Я” индивида, его личностью. ... личность человека со всеми ее поступками, склонностями, страстями, радостями и страданиями прочерчивает как бы некоторую целостную смысловую линию, называемую судьбой»12. Сознание может быть целостным и разорванным, деятельным или быть «тенью деятельности», но порождаемые сознанием поступки всегда целостны. Поступок подготовлен всем опытом сознательной жизни и деятельности, то есть он представляет собой нечто готовое. Но его комбинация всегда осуществляется средствами импровизации, которые могут делать поступок также неожиданным для совершающего его субъекта.
Поступок несводим к деятельности и невыводим из ее функционирования. Это результат развития. Деятельность регламентирована, а поступок свободен, хотя он находится в контексте деятельности; по- ступки могут прерывать деятельность, а иногда и жизнь. Поступки придают деятельности нравственный смысл, значение, социальное и историческое звучание, делают деятельность осмысленной, этим модифицируя личность, поднимая ее над деятельностью, над самосознанием и сознанием, расширяя степень свободы.
Поступок необратимо влияет на личность, не только строя, но и меняя ее. В поступке выступает «неслиянное единство» онтологического и феноменологического планов развития; оно не дано изначально, а задано, должно постоянно строиться и поддерживаться человеческим усилием, выражающимся в движениях, действиях, поступках, во внутренней борьбе с самим собой. Усилие над самим собой порождает в человеке Человека. Отсюда и перечисленные Бахтиным свойства поступка: аксиологичность, ответственность, единственность, событийность, целостность. Поступок соединяет сознание, имеющее смысловое строение, с личностью, понимающей свое место в истории. Как указывает В. П. Зинченко, поступок — это личность. Личность, перенимая на себя опыт целостных свободных актов, сама становится целостной.
По С. Киркегору, в результате выбора личность обретает, рождает самое себя, создавая свой жизненный путь (в противоположность Канту, определяющему личностный выбор умопостигаемым характером). Потому свободный выбор имеет важное значение не только для данного отдельного индивида, но и для вечности: вместе с ним в мире проявляется нечто такое, чего еще не было и могло и не быть, не создай этого только данный индивид. По Ясперсу, экзистенция есть субъектная свобода, которая не может быть найдена среди предметного причинно-обусловленного мира. Тут обнаруживается своего рода необходимость, но не природная и не нравственно-духовная, а личная, экзистенциальная. Нет долга вообще, рассуждает С. Киркегор, а есть долг по отношению к самому себе, у каждого человека —свой — экзистенциальный долг быть самим собой, обрести самого себя.
Значение поступка в становлении личности обосновал М. М. Бахтин. Участный, событийный поступок делает возможным целостность человека: «„вся жизнь в целом может быть рассмотрена как некоторый сложный поступок. Я поступаю всею своей жизнью, каждыIй отдельный акт и переживание есть момент моей жизни — поступ-ления»13. В. Франкл писал: «„ежедневно и ежечасно жизнь ставит вопросы, и мы должны на них отвечать — не разговорами или размышлением, а действием, правильным поведением. Ведь жить —в конечном счете значит нести ответственность за правильное выполнение тех задач, которые жизнь ставит перед каждым, за выполнение требований дня и часа„ Ни одного человека нельзя приравнять к другому, как и ни одну судьбу нельзя сравнить с другой, и ни одна ситуация в точности не повторяется —каждая призывает человека к иному образу действий. Конкретная ситуация требует от него то действовать и пытаться активно формировать свою судьбу, то воспользоваться шансом реализовать в переживании (например, наслаждении) ценностные возможности, то просто принять свою судьбу» 14.
В христианстве есть понятие, отражающее самое главное содержание жизни человека —«крест», или «задание». Ничто в мире не существует «просто так», у всего есть свой смысл, свое предназначение —у живого и неживого. Такое предназначение есть и у каждого человека, независимо от того, где, когда и каким тот появился на свет. Каждый человек приносит с собой в мир свои задачи, они могут и должны быть решены в любых условиях жизни. Но в наличии такого жизненного задания для христианина нет ничего фатального. Эта экзистенция, эта внутренняя неизмени-мость логики духовной жизни отличается от античного понятия «рока» тем, что эта логика жизни связана с внутренними задачами: мы свободны в том, возьмемся ли мы за выполнение своей задачи, поймем ли ее и как станем ее осуществлять. Обладая свободой в выборе жизненных целей и средств их достижения, в осуществлении своего жизненного пути, сам человек освобождается от власти природы, от своего прошлого, своих привычек и страстей. В свободном выборе человек неотвратимо оказывается перед дилеммой добра и зла и в ее решении духовно растет или деградирует. Об этом говорят и С. Киркегор, и С. Л. Франк, и В. В. Зеньковский. Подобные идеи прослеживаются в современных психологических исследованиях. Это то, что К. А. Абульханова-Славская называет жизненным путем личности.
Выстраивая свой жизненный путь, человек собственной волей свободно утверждает самого себя —со всеми своими качествами, включая те причины, которые их обусловили, — как равноправного члена умопостигаемого мира, несущего ответственность за то, что он сделает с этой возможностью. Принявший такую ответственность человек, проникается чувством не абстрактного всеобщего долга, а личного долга перед самим собой, перед Абсолютом и вечностью. Выбирая, человек сознает себя тем, что он есть, то есть осознает свое вечное и истинное значение как человека.
До волевого выбора человек был естественно сложившимся индивидом, каким сделали его природа и обстоятельства, в которых он жил, он обладал определенным характером, способностями, склонностями, бесконечным разнообразием индивидуальных особенностей, которые и определяли его поступки, стремления, желания, симпатии и антипатии. Однако акт выбора дает человеку возможность в личностном поступке определять себя собственной волей, а не быть обусловленным внешними обстоятельствами, природной или социальной средой, естественной или исторической необходимостью. Совершая акт выбора, человек как индивидуальность со своими психическими особенностями, индивидуальными чертами не меняется, тем не менее сам он становится другим субъектом, другим «Я». Выбор себя —это второе рождение человека, рождение духовного бытия, личностного начала.
Подобные взгляды в психологии предоставлены в теории личности В. С. Мерлина. Тот указал на парадоксальные факты, полученные в исследованиях гомозиготных близнецов, когда даже при совершенно тождественной наследственности и чрезвычайно сходных условиях воспитания наблюдаются различия в характерах. Совершенно очевидно, что есть другие причины, кроме природных и социальных, которые приводят к таким различиям, и эти причины —в личностном выборе свободно определяющегося человека. Кроме того, как указывает В. С. Мерлин, при одинаковых внешних причинах психологического конфликта потери зрения во взрослом возрасте наблюдаются противоположные изменения характера. Например, среди ослепших в результате ранения на фронте одни озлоблялись, замыкались, опускались нравственно. Другие, наоборот, становились общительными, отзывчивыми, изменялись и расширялись их интеллектуальные интересы, повышался уровень активности. Эти различия были связаны с личностными поступками по разрешению кризисной ситуации: решался ли больной на переход на полную инвалидность или стремился приобрести новую профессию, доступную для слепого. Первый поступок приводил к отчужденности от людей, озлобленности. Второй —к расширению профессиональных и трудовых интересов, к активизации деятельности, инициативности и расширению межличностных связей и отношений15.
В течение всей своей жизни человек находит свой путь, определяясь в ценнос- тях, наиболее важные из которых становятся для него ориентирами, с позиции которых оценивается и понимается мир, складывается обобщенное отношение к жизни, расширяется ценностно-смысловое пространство личности, выстраивается единая жизненная линия и выявляются противоречия между нею и жизненными обстоятельствами, создается направленность на цели, связанные с отдаленным будущим. Так обретается смысл жизни. Каждая личность выстраивает свой жизненный путь совершенно особенно, опираясь на собственные ценности и смыслы. Жизненный путь складывается из личностных, осознанных, ответственных, уникальных и единственных поступков. Можно говорить о том, что духовность состоит в том, как человек осуществляет свой жизненный путь, как находит и осуществляет он обретенные в результате сложной духовной и душевной работы ценности и смысл жизни. Необходимо подчеркнуть также, что реализация подобных идей возможна лишь в случае парадигмальной установки на субъектность личности, то есть изначально осознанную, ответственную активность человека в построении собственного пути.
Список литературы Духовность как осуществление жизненного пути
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского/М. М. Бахтин. М., 1963. С. 78.
- Франкл В. Человек в поисках смысла/В. Франк. М., 1990. С. 107-110.
- Абульханова-Славская К. А. Роль категории субъекта в отечественной психологии//Антология современной психологии конца 20 века: Ежегодник/Российское психологическое общество. Т. 7, вып. 3. Казань, 2001. С. 19.
- Славская А. Н. Личность как субъект интерпретации/А. Н. Славская. М., 2002. С. 14.
- Знаков В. В. понимание субъектом правды о моральном поступке другого человека: нормативная этика и психология нравственного сознания//Психологический журнал. 1993. № 1. С. 33.
- Старовойтенко Е. Б. духовные влияния как основа воспитания и саморазвития личности//Психологический журнал. 1992. № 4. С. 95-98.
- Знаков В. В. Понимание как проблема психологии человеческого бытия//Психологический журнал. 2000. № 2. С. 12.
- Пономаренко В. А. Ппсихология духовности профессионала/В. А. Пономаренко. М., 1997. С. 213.
- Франк С. Л. Духовные основы общества/С. Л. Франк. М., 1992. С. 149, 161.
- Зинченко В. П. Проблемы психологии развития (Читая О. Мандельштама)//Вопросы психологии. 1992. № 5-6. С. 47-48.
- Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века/П. П. Гайденко. М., 1997. С. 151.
- Бахтин М. М. К философии поступка//Философия и социология науки и техники: ежегодник 1984-1985. М., 1986. С. 83.
- Франкл В. Сказать жизни «Да»: психолог в концлагере/В. Франк. М., 2004. С. 107-108.
- Мерлин В. С. Структура личности: характер, способности, самосознание/В. С. Мерлин. Пермь, 1990. С. 25.