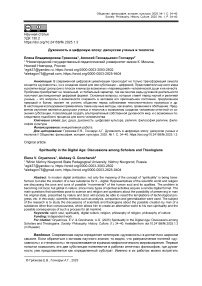Духовность в цифровую эпоху: дискуссии ученых и теологов
Автор: Грязнова Е.В., Гончарук А.Г.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
В современной цифровой цивилизации происходит не только трансформация смысла концепта «духовность», но и создание новой для нее субстанции - цифровой. Представители научного мира и религии ведут дискуссии о плюсах и минусах возможных «перемещений» человеческой души и ее качеств. Проблема приобретает не локальный, а глобальный характер, так как многие виды духовной деятельности получают дистанционный цифровой формат. Основные вопросы, которые ставят перед наукой и религией ученые, - это вопросы о возможности сохранить в человеке его оригинальное состояние, предписанное природой и Богом; сможет ли устоять общество перед соблазнами технологического прогресса и др. В настоящем исследовании применялись такие научные методы, как анализ, сравнение и обобщение. Предметом изучения являются дискуссии ученых и теологов о возможном создании человеком отличной от сознания субстанции, позволяющей создать альтернативный собственной духовности мир, и о возможных последствиях подобного процесса для всего человечества.
Дух, душа, духовность, цифровая культура, религия, философия религии, философия культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/149147433
IDR: 149147433 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2025.1.3
Текст научной статьи Духовность в цифровую эпоху: дискуссии ученых и теологов
,
,
1,2Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, Russia , ,
понимание духа как первоосновы мира, начала формообразования и т. п. Лишь позднее, в эпоху зарождения христианской церкви, в период Средневековья, категория «духовность», содержащая целеполагание, понимаемая как вечность, начинает обретать иные черты и смыслы. На примере концепций Декарта и Спинозы можно проследить развитие философского понимания духовности как концепции рационального, через понятия «разум» и «мышление», как подхода, характерного для Нового времени.
Рационалистический поход к осмыслению феномена духовного был реализован в классической немецкой философии, а затем в философии позитивизма. Однако для этого направления духовность не стала актуальной проблемой, в силу того что позитивизм отстаивает позиции эмпирических исследований, что затруднительно сделать, когда речь идет не о материальных субстанциях. Данные ограничения в материалистической и особенно в марксистской философии привели к тому, что духовность была противопоставлена категории «материальное» и стала отождествляться с понятием «сознание».
Несколько иной подход был реализован в русской религиозной философии. В ней более четко выражен психологический аспект осмысления феномена духовности. В частности, основной смысл заключается в том, что духовность как категория психологии оказывается тесно взаимосвязанной с понятиями «воля», «чувство», «разум», «мышление». Это явление представляет собой такую данность, которую можно описать только по каким-либо признакам, характерным для человеческого бытия. Именно они отличают человека от близких к нему сущностей, например животных, систем искусственного интеллекта. К таковым относят, как правило, феномены свободы, творчества, любви, милосердия, самопожертвования и др.
Действительно, например, свобода, ответственность, самосознание – понятия, свойственные только человеку, обязывающие его одухотворять собственную деятельность, выступая границами между свободой и произволом, дающие возможность человеку оценивать свои поступки и действия, видеть их возможные последствия. Диалектика как методология исследования в этом случае справедливо определяет и диалектическую полярность, в частности, индивидуальной и коллективной ответственности. Применяя этот метод к определению сущности духовности, философы приходят к необходимости разработки категории «нравственность». Так, в работах В.С. Соловьева можно видеть положения о том, что духовность человека – это забота о ближнем, семье, стремление быть патриотом, иметь веру и искренне служить церкви (2024). Русский мыслитель И.А. Ильин писал о том, что дух человека является той силой, которая наполняет его жизнь благими целями (2023). Он также определял духовное бытие человека через единство веры, любви, совести и др.
Обобщая и сравнивая концепции духовности в русской религиозной философии, можно выделить два основных направления в ее определении. В первом случае духовность понимается как сущность самого человека, а во втором – как тот идеал, к которому он должен стремиться на протяжении всей жизни.
Современное социально-гуманитарное знание имеет богатый потенциал в определении духовности как научной категории. В психологии, философии, теологии возникли свои представления о возможности или невозможности наличия либо создания для данного феномена альтернативного субстрата и форм существования. Проблема изучения сложившихся ключевых позиций по данному вопросу становится актуальной в условиях стремительно развивающегося цифрового общества и культуры.
Предмет данного исследования – научные дискуссии о возможности и последствиях создания человеком альтернативного – цифрового – носителя для форм духовного бытия. В исследовании применяются методы аналитического обзора научной литературы, анализ, сравнение, обобщение, а также методы философской рефлексии. Здесь стоит отметить контекстуальный метод, позволяющий выявить опосредованность тех или иных богословских идей не только общим богословским полем эпохи, но и позицией исследователя. Были использованы диахронный метод изучения, устанавливающий этапы формирования конкретной гипотезы, а также метод системного анализа и реконструкции.
Результаты . В современном социально-гуманитарном знании определились два основных подхода к пониманию феномена духовности. Один из них можно обозначить как религиозный, который берет начало в богословских науках и религиозной философии, определяя духовность как божественную данность. Второй носит светский характер и отталкивается в толковании духовности от психологических концепций в научном познании души человека как совокупности качеств его сознания и деятельности.
Общими чертами в этих подходах можно назвать те качества, которые выделяют исследователи, описывая проявления духовности в человеческом существовании, мировоззрении, деятельности (добродетель, благо, созидание, милосердие и т. п.). Еще одной общей позицией в обоих направлениях выступает тот факт, что и богословы, и ученые не исключают возможности существования духовности вне индивидуального сознания человека. Однако если теологи считают, что она может представать как божественная сущность, то ученые ввели для понимания такой альтернативы формы коллективного сознания.
Само явление коллективного, общественного сознания до сих пор не имеет точного определения в силу того, что и феномен индивидуального сознания до конца не изучен, его природа также является предметом научных дискуссий. На страницах журнала «Вопросы философии» регулярно публикуются содержание и результаты таких дискуссий, в которых принимают участие исследователи искусственного интеллекта, психологи, философы, теологи и др.
Так, например, Д.В. Иванов высказывает мнение о том, что в определении субъективности сознания не следует замыкаться только на уровне человеческого сознания, так как субъективность свойственна и другим живым организмам (Человеческая субъективность…, 2016: 11). Его позиция строится на том, что элементы субъективной реальности дискретны и их можно репрезентировать, а затем и перенести на иной носитель. В этом случае они станут доступными для других субъектов, но оригинал утрачен не будет и сохранит свои уникальные свойства.
Со своей стороны для обозначения искусственной субъективности мы ввели термин «квазисубъект». Но в нашем понимании квазисубъект не обладает субъективностью, он только исполняет роль субъекта. Даже если высокоинтеллектуальные машины и способны самостоятельно вырабатывать и принимать решения, делают они это не по собственной воле, а по воле субъекта, т. е. человека. Иными словами, информационные квазисубъекты вторичны относительно человека, он управляет такой формой субъективности. Однако всеми качествами, определяющими духовность человека, могут управлять и Бог (позиция богословия), и социум, и сам человек (позиция науки). Но, учитывая информационную сущность человека, его сознание подвергается информационному воздействию со стороны информационных систем, созданных не только Богом или природой, но и им самим. Эта позиция отражена в дискуссии по данному вопросу (Человеческая субъективность…, 2016).
Исследуя феномен субъективной реальности, ученые на протяжении многих лет спорят о том, существует ли субъект в принципе. Такое сомнение возникает, например, в рамках концепции «исчезающего субъекта» разрабатываемой в социально-конструкционистском подходе. В частности, можно встретить утверждение, что в информационном мире цифровой реальности субъект и его духовность теряют свою самость, растворяясь в информационном потоке (Lisewski, 2006). Признание сознания в качестве информационного феномена требует определения его как информации особого рода и ее носителя. Именно такое понимание позволяет сделать предположение, что сознание и продукты его деятельности можно переносить на иной носитель за пределы субъективной реальности. Ученые с осторожностью говорят о подобных гипотезах существования альтернативного Духа, но и не отрицают такой возможности. Например, Д.И. Дубровский, на протяжении многих лет изучая способности мозга и сознания, отвечает положительно на вопрос о возможности в будущем переноса сознания на искусственный носитель (Efimov et al., 2021).
Перенос человеческой духовности от сознания на иной носитель приводит и к проблеме возможности ее искажения, деформации. Духовность, понимаемая как то, чем наделяет человека Бог, – это то, что человек должен получить только через ежеминутный и постоянный при жизни душевный труд, что традиционно и практически не меняется тысячелетиями. И психологи, и теологи говорят о ментальных структурах человеческой сущности, которая может иметь информационную природу и представляет собой сложнейшую информационную систему.
За информационную сущность человека отвечают его родовые качества, которые определены в современной науке как сознание, язык, деятельность и общение. Исследователи считают, что появление дополнительной возможности изменения принципов духовности, детерминированной социумом, а не Богом, может привести к трагическим последствиям утраты скреп в идентичности личности (Botz-Borstein, 2004; Patridge, 2011).
Современное общество можно определить как информационное, постмодерное и глобализирующееся. Сегодня реальность представляет собой качественно новую ступень в развитии человечества и его культуры. Возникают противоречивые тенденции ее развития. Отличительной чертой современности является превращение средств массовой информации из транслятора культуры в производителя культурных ценностей. Наблюдается замена объективной реальности виртуальным миром, где игровые ситуации позволяют конструировать отношения, пол, роли, что приводит к кризису идентификации. Появилась возможность проживать жизнь в полностью искусственной среде. Все действия проигрываются фактически без участия тела. Возникли новые микро- и макромиры, виртуальные реальности. Реальный мир подменяется виртуальным. Человек знает мир, представляемый телевидением и информационными сетями, где интенсивно культивируется «человек без свойств»: нет возраста, нет национальности, нет пола.
Такой вид культуры в современной научной литературе определяют как культуру детерри-торизации. Она становится универсальной и не привязанной к конкретному времени и пространству. Для такой культуры характерны обезличенные формы человеческого бытия. При этом она не обязывает человека к соблюдению каких-либо рамок, норм поведения - предлагается безграничная свобода выбора своего поведения и норм жизни.
В подобной ситуации происходит взаимовлияние и взаимопроникновение ценностей различных культур, например, распространяются западные ценности на европейский мир и европейский мир влияет на культуру Запада. Взаимодействие культур приобретает универсальный диалоговый характер.
При взаимовлиянии мировых культур отмечается и то, что современная культура носит светский и секуляризированный характер. Рационализм охватывает все сферы культуры. Наука и технологии все в меньшей степени поддаются воздействию гуманитарных основ и становятся самодостаточной реальностью современного мира. Например, генная инженерия, биомедицина уже освоили технологии клонирования, пересадки и искусственного выращивания органов, вживления в живой организм технических объектов. Этот процесс можно обозначить как цифровизацию и технологизацию человеческой сущности. Но рационализация, которая базируется на принципах эффективности, предсказуемости, служения благу человека, способна привести к антигуманным результатам (например, тейлоризму как «научной системе выжимания пота», фордизму, холокосту как образцу формальной рационализации). Происходит единоборство разума и безумия: эффективность оружия массового уничтожения, нагромождение духовных и моральных отбросов, сложный путь к разумным решениям на уровне политиков. Динамика исторических процессов невероятна: скорость перемен, их глубина, географические масштабы. Человечество задумывается над минимизацией вреда, наносимого природе за счет внедрения новых технологий; повышением роли науки и наукоемкости производства; изменением содержания, методов и форм образования.
Несомненно, что повышение технологической оснащенности общества всегда имеет целью исключительно положительные намерения и направление на повышение благополучия человека. Стремление человека освободить себя от физического, интеллектуального и другого вида труда - это проявление человеческой сущности. Его назначение заключается в проявлении гармонии и творческом созидании. Исторически человечество приходит к пониманию того, что подобная идиллия не может быть достигнута без энергетических и духовных затрат. Однако стремление к такому положению заложено в человеке самой природой - достижение максимального результата при минимальных затратах. Вероятно, в силу этого современный человек старается переложить основные энергетические затраты на искусственные технические системы, оставляя за собой лишь деятельность, доставляющую удовольствие. В сегодняшнем мире стрессы, переутомление, эмоциональное выгорание являются причинами духовной усталости.
В условиях цифровизации и глобализации социального пространства происходит трансформация системы духовных и культурных ценностей. В нашей стране данный процесс усугубляется длительным забвением духовно-религиозного воспитания и просвещения в период социалистического строя и перестройки. Например, богословие долгие годы было вытеснено на периферию научного знания. Богословы продолжали развивать теологию в рамках духовных академий и семинарий при условии того, что ученые степени богословских наук не признавались государством. Тем не менее именно теология как наука о диалоге с Богом изучает законы духовного развития человека. В светской науке эта роль была отведена психологии и философии. Однако в ней до сих пор не существует четкого понимания того, что такое душа, дух, духовность.
Понятие духовности связано не только с феноменом души, но и со многими ее производными. Некоторые из них можно переносить на материальный носитель, отличный от биосубстрата человека. Такое явление сегодня становится нормой в связи с развитием систем искусственного интеллекта. Дискуссии ученых о возможности переноса на иной субстрат таких производных духовной деятельности человека, как информация, имеют научные обоснования. Однако проблема заключается в том, что не всякая информация может быть произведена иными видами субъективности, оставаясь при этом неискаженной. В частности, такая производная деятельности сознания, как идеология, может быть только результатом многолетнего осмысления коллективным субъектом неких позиций, выработанных на базе традиционной культуры, принятой и понимаемой им. В силу этой причины идеология, насаждаемая, искусственно создаваемая, сложно приживается в государстве, в котором ядро культуры составляет система традиционных ценностей. Примером может служить православная традиция, которая, являясь элементом ядра российской культуры на протяжении многих столетий, и по сей день оказывается фундаментальной основой единства нашей страны. Все попытки искоренить православную традицию приводят к возникновению духовного кризиса.
Например, при переходе нашей страны к идее построения коммунистического общества потребовалось создание отличной от православной веры социалистической идеологии. При этом подразумевался отказ от традиционных семейных ценностей, религиозной веры, православного образования и воспитания, принципов взаимодействия церкви и государства и т. п. В результате первые годы советской власти были отмечены разрухой, снижением нравственности, повышением уровня преступности не только во взрослой среде, но и среди детей. Чтобы навести порядок «строители коммунизма» были вынуждены обратиться к традициям православной веры, взяв за основу ее каноны и заповеди, но изложив их иными словами. После падения социалистического строя были предприняты попытки насаждения чуждой для российского человека западной идеологии. Но и она не приживается в сознании русского народа, поскольку вступает в противоречие с принципами духовности православной культуры. Каждый такой переломный момент сопровождается духовным кризисом в стране.
Духовный кризис общества не формируется на пустом месте. Его причинами являются кризисы не только в экономике и политике, но и во всей сфере культуры, чьим ядром всегда была вера человека в высшие силы, которые ему не ведомы. Эта вера и являлась истоком силы духа. В качестве примера подобной взаимозависимости можно привести современную Россию, когда результатом кризиса в культурной и духовной сферах общества в социальном воспитании исчезла доминирующая стратегия в области морали, наблюдается отсутствие четких ориентиров в области нравственного воспитания детей и молодежи, школа оказалась лишенной традиционных воспитательных механизмов. Исторически в России задачи духовного воспитания и просвещения решали не только общественные организации, но и такой важный институт, как семья. Однако в условиях духовного кризиса, формирования мозаичной картины мира происходит трансформация и данного важнейшего элемента системы духовного воспитания, выражающаяся в утрате семейных традиций и ценностей. Основная тенденция заключается в том, что в современной семье становится нормой перекладывание ответственности за воспитание на государственные или частные субъекты социализации. В настоящее время для духовного возрождения России государство, общество и церковь активизируют работу по восстановлению утраченных позиций в данной области. Тем не менее существенную угрозу сохранению традиций духовного воспитания продолжают представлять социальные сети, системы цифровизации, приводящие к распаду традиционных семейных отношений.
Цифровая культура характеризуется тем, что непосредственное общение все больше вытесняется опосредованным информационными технологиями, которые само общение превращают в передачу информации. При этом происходит неизбежная утрата духовной близости, свойственной людям. Это, в свою очередь, снимает с коммуникаторов (общающихся) чувство ответственности за результат общения, так как современные технологии позволяют реализовать социальное взаимодействие не только дистанционно и вне реального времени, но и анонимно, перепоручая процесс информационным субъектам. В результате вырабатываются новые стили общения, языка и деятельности, которые меняют и само сознание человека. Это требует и новых форм знания, например интеллектуальной добродетели, которые вводятся в современные образовательные программы (Heersmink, 2018).
Как следствие, искажается и сам процесс познания, получения образования. Если при традиционных способах обучения от человека требовалось приложение духовных усилий, то теперь этот аспект уходит на задний план. Образование переходит в свою самую духовно обедненную фазу – передачу информации от учителя к ученику. Такого подхода требуют все увеличивающиеся темпы развития технологии.
Духовность, покидая педагогический процесс, обедняет его. Сам учитель должен обладать принципами высокой духовности. Однако современное поколение педагогических кадров уже не отвечает данным требованиям (Сомов, 2024; Kostyukova et al., 2023). В средних и высших учебных заведениях можно наблюдать безнравственные поступки педагогов по отношению к студентам и друг к другу. Вероятно, распространившаяся в сетях киберагрессия со стороны детей, подростков и молодых людей – это прежде всего результат психологических травм, полученных от педагогов в процессе образования. Разжигание конфликтов, провокации, троллинг, кибербуллинг, преднамеренные агрессивные действия, направленные на жертву, не способную защититься, флейминг, перепалки, оскорбление и др. – это все реакция ребенка на обидевшего его социум в лице педагогов, родителей, не обладающих высоконравственными и духовными принципами жизни.
Высокодуховный человек не нуждается в усиленных мерах контроля и наказания за свое поведение со стороны социума. Он по определению не может преступить принципы духовности. Но если в обществе данные меры усиливаются, возрастает необходимость введения тотального контроля – это значит, что утрачено доверие людей друг к другу. Информационные технологии приводят именно к этому эффекту. Они способны породить иную духовность, с иными принципами. Если религия учит чистоте помыслов и поступков, то информационная культура учит тому, как уйти от наказания за совершенные проступки. Она начинает представлять собой систему гонки информационного превосходства, где одни разрабатывают систему информационного контроля, а другие учатся ее обманывать.
Заключение . Изучение мнения ученых и теологов о возможности и последствиях переноса духовных качеств человека в сферу цифровых носителей показывает, что перенести можно информацию, но не глубинные свойства души человека. Можно имитировать информационное поведение человека, но душа вряд ли поддается программированию. Духовные качества личности можно пресечь, отфильтровать, создавая бездуховную машину в человеческом теле.
Опаснее всего, по мнению исследователей, возможность создания дублера человеческого сознания, способного принимать решения и внедряться в социум. Вероятно, что имитация духовности опаснее ее отсутствия. В этом плане богословы, изучая строки священных писаний, видят в них пророческие слова: «И он <зверь> сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр. 13:16, 17).
Список литературы Духовность в цифровую эпоху: дискуссии ученых и теологов
- Ильин И.А. Путь духовного обновления: 4-е изд. М., 2023. 479 с.
- Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия. М., 2024. 468 с.
- Сомов В.А. Педагогическое искусство К.Д. Ушинского сквозь призму исторической действительности // Вестник Мининского университета. 2024. Т. 12, № 1 (46). С. 4. DOI: 10.26795/2307-1281-2024-12-1-4 EDN: NSJMVD
- Человеческая субъективность в свете современных вызовов когнитивной науки и информационно-когнитивных технологий. Материалы круглого стола / В.А. Лекторский, Д.И. Дубровский, Д.В. Иванов, А.В. Катунин, И.Ф. Михайлов, Е.О. Труфанова, Е.Л. Черткова, И.О. Щедрина, А.Ф. Яковлева // Вопросы философии. 2016. № 10. С. 5-35. EDN: SHQYPZ
- Botz-Borstein T. Virtual reality and dreams. Towards the autistic condition? // Philosophy in the Contemporary World. 2004. Vol. 11, no. 2. P. 1-10. DOI: 10.5840/pcw200411218
- Efimov A.R., Dubrovsky D.I., Matveev P.M. Walking through the Turing wall // IFAC-PapersOnLine. 2021. Vol. 54. P. 215-220. DOI: 10.1016/j.ifacol.2021.10.448 EDN: YLJBTW
- Heersmink R.A. Virtue epistemology of the Internet: Search engines, intellectual virtues and education // Social Epistemology. 2018. Vol. 32, no. 1. P. 1-12. DOI: 10.1080/02691728.2017.1383530
- Kostyukova T.A., Shaposhnikova T.D., Kazantsev D.A. Ways to improve the quality of teacher training for teaching the "Fundamentals of the spiritual-moral culture of the Peoples of Russia" // Education & Pedagogy Journal. 2023. No. 3 (7). P. 5-24. DOI: 10.23951/2782-2575-2023-3-5-24 EDN: WFTDKK
- Lisewski A.M. The concept of strong and weak virtual reality // Minds and Machines. 2006. Vol. 16, no. 2. P. 201-219. DOI: 10.1007/s11023-006-9037-z EDN: OZJZQQ
- Patridge S. The incorrigible social meaning of video game imagery // Ethics and Information Technology. 2011. Vol. 13. P. 303-312. DOI: 10.1007/s10676-010-9250-6 EDN: TXNLBQ