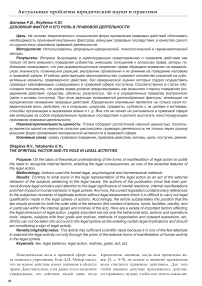Духовный фактор и его роль в правовой деятельности
Автор: Шагиева Розалина Васильевна, Якубенко Константин Юрьевич
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы юридической науки и практики
Статья в выпуске: 6 (19), 2015 года.
Бесплатный доступ
Цель: На основе теоретического осмысления форм проявления правовых действий обосновать необходимость признания внутренних факторов, влекущих правовые последствия, в качестве одного из сущностных признаков правовой деятельности. Методология: Использовались формально-юридический, психологический и герменевтический методы. Результаты: Вопреки бытующему в юриспруденции представлению о правовом действии как только об акте внешнего поведения субъектов, имеющем отношение к вопросам права, авторы публикации показывают, что уже дореволюционные теоретики права обращали внимание на юридическую значимость психических реакций, внутренних проявлений и их влияние на поведение человека в правовой сфере. И сейчас действующее законодательство содержит множество указаний на субъективные моменты правомерного действия, без юридической оценки которых трудно осуществить правовую квалификацию совершаемых в правовой сфере поступков. Соответственно в статье обосновано положение, что норма права должна предусматривать как внешнюю сторону поведения (содержание действий, средства, объекты, результаты), так и в определенных пределах внутреннюю (цели и мотивы поступка). При этом важными оказываются разнообразные факторы, влияющие на юридическое измерение правовых действий. Юридически значимыми являются не только сами поведенческие акты, действия, но и операции, средства, предметы, субъекты с их целями и мотивами, способы организации и выражения вовне и т. д. Все это не может не учитываться в правовой сфере как влекущее за собой определенные правовые последствия и должно выступать конституирующим признаком правовой деятельности. Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает достаточной научной ценностью, поскольку является одной из немногих попыток рассмотреть правовую деятельность не только через призму внешних форм проявления человеческой активности в правовой сфере.
Право, правовое поведение, правовое действие, мотивы, цели, поступок, деяние
Короткий адрес: https://sciup.org/14042332
IDR: 14042332
Текст научной статьи Духовный фактор и его роль в правовой деятельности
Поведенческие акты в правовой сфере нельзя понимать упрощенно. Еще Д.И. Мейер писал, что не всякое действие имеет значение в области права. Действительно, хотя давно стало аксиомой утверждение, что действия людей лишь тогда юридически значимы, когда они проявлены вовне [5, с. 8–9], не всякое и внешнее проявление воли считается правовым действием. Для того чтобы внешнее действие признавалось действием правовым, нужно, чтобы оно имело какое-ни- будь отношение к вопросу о праве [8, с. 153–154]. В частности, В.Н. Карташов юридические действия представляет как внешне выраженные, социаль-но-преобразующие и влекущие определенные правовые последствия акты субъектов, которые составляют первоначальное звено, основу любой юридической деятельности [4, с. 30.].
Однако другой исследователь-правовед писал, что наблюдаемые внешние поступки людей есть лишь первое необходимое условие правового регулирования и исследования [3, с. 34]. Зная же эти поступки, можно понять мотивы, мысли человека и воздействовать на них. С одной стороны, право способно влиять на мышление и чувства людей, формируя внутренние мотивы поведения, а с другой – мотивы поведения, как известно, учитываются при решении вопроса о юридических последствиях тех или иных действий. Так, в ст. 980 «Условия действия в чужом интересе» Гражданского кодекса Российской Федерации говорится: «1. Действия без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его личности или имуществу, исполнения его обязательства или в его иных непротивоправных интересах (действия в чужом интересе) должны совершаться, исходя из очевидной выгоды и действительных или вероятных намерений заинтересованного лица, и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью ». Нами выделены курсивом указания на субъективные моменты, которые имеют юридическое значение при оценке правовых действий лица, действующего в чужих интересах. Юриспруденция оперирует и понятием «конклюдентные действия», которым охватывается молчаливое поведение, свидетельствующее о намерениях субъекта, совершающего определенные правовые действия.
Не удивительно, что Л.И. Петражицкий считал, что «ошибочно думать, будто право регулирует исключительно внешнее поведение, т. е. телодвижения, или довольствуется чисто внешним поведением, признавая для исполнения достаточным известный внешний эффект, независимо от явлений внутреннего мира» [9, с. 160]. Достаточно убедительно им приводились примеры из разных областей права: «Например, опекун, государственный чиновник, управляющий чужими делами и т. п. обязаны в тех случаях, где решение какого-либо вопроса зависит от их усмотрения, применять внимательное и добросовестное усмотрение. …Притязание управомоченного направлено здесь на психическое, внутреннее поведение, а не чисто внешние акты» [9, с. 160].
Современные авторы также утверждают, что правовые действия могут проявляться не только во внешних, телесных движениях, но и в таких актах, как признание или непризнание, требуемое правовой нормой. Например, распространение действия нормы на новые отношения, признание сделки недействительной, а договора розничной купли-продажи – заключенным в надлежащей форме, также требует соответствующего поведения субъекта, выраженного не столько во внешних, сколько во внутренних актах [10, с. 438].
На наш взгляд, это созвучно стремлению научной психологической мысли охватить словом «поведение» любую измеряемую реакцию организма. А. Ребер пишет по этому поводу: «Проблема состоит в том, что, поскольку диапазон явлений, входящих в область научного знания, увеличился, возникла потребность расширить и границы того, что с полным правом называлось «поведением». Вопрос о включении действия в класс вещей, называемых «поведением», всегда решался в зависимости от того, насколько оно измеряемо» [11, с. 51.].
Даже те авторы, которые категорически настаивают на том, что правовое значение имеет только то поведение, которое выражено вовне в форме телодвижений и т. д., вынуждены прибегать к введению такого понятия, как «поступок». В частности, В.Н. Кудрявцев считал, что элементами человеческого поступка являются те составляющие его физические действия (телодвижения), которые необходимы для достижения поставленных целей, а также и те психологические процессы, благодаря которым эти действия мотивируются, планируются и совершаются в соответствии с целями субъекта [6, 9, с. 140]. В связи с этим можно согласиться с предложением, различая внутренние и внешние стороны деятельности, указывать все же на те ее внешние проявления, которые служат необходимым условием юридической оценки действий субъектов. Определение действия, адекватное целям правовой теории, было дано немецким социологом М. Вебером: «Действием» мы называем действие человека (независимо от того, носит ли оно внешний или внутренний характер, сводится ли к невмешательству или терпеливому приятию), если и поскольку действующий индивид или индивиды связывают с ним субъективный смысл. «Социальным» мы называем такое действие, которое по предполагаемому действующим лицом или действующим лицами смыслу соотносится с действием других людей и ориентируется на него» [2, с. 602–603]. Не случайно современные исследователи полагают, что теория социального действия (М. Вебер, Ф. Званецкий), наряду с анализом рациональных компонентов целеполагающей деятельности, подчеркивает значение ценностных установок и ориентаций, мотивов деятельности, ожиданий, притязаний и пр., что приводит к психологизации понятия деятельности [1, с. 73]. Получается, что социальный смысл поведения зависит как от объективных, так и от субъективных его свойств. При этом объективные оценки не должны абстрагироваться и от субъективных, психологических свойств поведения, мотивов, целей, планов действий, общей социальной ориентации субъекта. Ведь именно эти субъективные элементы, будучи внутренними побудителями к поступку, придают ему то или иное направление, что во взаимодействии с внешней средой определяет характер поведения и наступивших последствий.
С позиций герменевтики какой-либо жест, например поднятую руку, можно воспринять то как голосование, то как молитву, то как желание остановить такси и т. п. Как отмечает П. Рикер, эта «пригодность-для» (valoir-pour) позволяет говорить о том, что человеческая деятельность, будучи символически опосредованной, прежде чем стать доступной внешней интерпретации, складывается из внутренних интерпретаций самого действия; в этом смысле сама интерпретация конституирует действие» [12, с. 12.]. Эта сторона действия, называемая духовным фактором, в каждом правовом действии имеет важное значение; только для области права она не существует сама по себе, а всегда связана с действием, проявляющимся наружу.
Однако специфика действий в правовой сфере имеет еще одну грань, еще один признак. Так, Д.И. Мейер в состав правовых действий включал как положительные, так и отрицательные действия. Положительное действие состоит в действительном совершении чего-либо; отрицательное – в таком проявлении воли, которое содержится в воздержании от другого какого-либо действия. Воздержание от действия есть также действие, проявление воли, так что для воли нет отрицания. Отрицательные действия имеют значение в юридическом быту, они представляются действиями точно так же, как и действия положительные, и юридический быт являет нам беспрестанное смешение действий положительных и отрицательных. Но относительно действия отрицательного обнаруживается то затруднение, что в нем не всегда видно внешнее проявление воли, хотя оно и существует: без такого внешнего проявления воли не было бы юридического действия.
Можно формулировать действие отрицательное противоположно действию положительному так: формула для действия положительного «я хочу и показываю на деле, что я хочу»; формула для отрицательного действия «я не хочу и показываю на деле, что я не хочу».
Таким образом, деление действий на положительные и отрицательные имеет смысл не по отношению к воле, а по отношению к содержанию действий. Но в чем же проявляется воля, когда идет речь о действии отрицательном? Признак, по которому узнается отрицательное действие, заключается в том, что лицу следовало бы совершить известное действие (произвести платеж, предъявить иск, вступить в обязательство и т. д.), но лицо не совершает этого действия. Здесь есть акт воли и проявление ее вовне, но только не такое проявление, которое есть совершение положительного действия, а воля проявляется вовне тем, что не представляет предмета для воззрения, она представляет как бы известное пространство, которое должно быть заполненным, но незаполненное.
Итак, о существовании отрицательного действия мы судим по несуществованию действия положительного. Всякому праву соответствует обязательство, неисполнение которого составляет отрицательное действие и влечет за собой целый ряд различных юридических последствий. И вот поэтому-то отрицательные действия имеют особую важность в области права, тогда как вне этой области они, быть может, даже не заслужили никакого внимания [8, с. 154–155].
В современных условиях используется специальное понятие, призванное охватить как отрицательное, так и положительное действие (по терминологии Д.И. Мейера), – деяние. Это такое волеизъявление, которое чаще всего выражается в активных действиях (сделка, отказ от своих имущественных прав или передача их другим лицам, поручение банку перечислить со своего счета определенную денежную сумму и т. д.). Но деяние может проявляться и в бездействии, воздержании от определенного действия, как это бывает, например, при воздержании от ответа на предложение заключить договор, от вступления в наследование, от акцептирования платежного требования кредитора [13, с. 154]. Даже в процессуальной сфере сейчас признается юридическое значение как положительных, так и отрицательных действий. В п. 2 ст. 3 «Состязательность» Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации говорится: «…Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совер- шения или несовершения ими процессуальных действий».
Какие факторы, влияющие на проявление воли вовне, учитываются в правовой сфере и определяют способы проявления содержания правового действия (бездействия)? Исходя из приведенного понимания деяния, можно, прежде всего, указать на то, что таковые должны совершать субъекты: 1) обладающие зрелым и здравым умом, т. е. человек по своему возрасту и психическому состоянию должен иметь возможность отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими; 2) сознающие социальное (а часто и правовое) значение своих действий (бездействия), или, по крайней мере, должна существовать объективная и субъективная возможность такого осознания. Если субъектом выступает юридическое лицо, то данные требования следует предъявлять к тем лицам, которые в силу закона или учредительных документов юридического лица правомочны выступать от его имени (ст. 53 ГК РФ).
Как справедливо отмечал еще Д.И. Мейер, отсутствие воли может представиться и в действии такого лица, которое со стороны законодательства не признается лишенным воли и за которым нет основания вообще не признавать воли: отсутствие ее может быть мгновенным, скоропреходящим. Так, сон, болезненный бред, аффект, опьянение, насилие, обман, ошибка и неведение приводят человека в такое состояние, что он действует бессознательно, лишается воли [8, с. 156 и др.]. Достаточно взглянуть на гл. 3 и 4, посвященные субъектам гражданского оборота (ст. 158–189 ГК РФ), чтобы понять, что современное гражданское право еще больше внимания уделяет объективным и субъективным факторам, влияющим, например, на форму совершения гражданско-правовых сделок как действий граждан и юридических лиц, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Завершая рассмотрение правового деяния, обозначим его главные критерии, которые особенно важны в своей совокупности для оценки человеческой активности в правовой сфере:
– его социальная значимость;
– его осознанность и целенаправленность;
– его выраженность вовне тем или иным способом.
В.Н. Кудрявцев вполне обоснованно пишет, что каждый индивидуальный поступок имеет определенную структуру:
-
1) объективная сторона – те конкретные действия (бездействие), которые были совершены лицом, включая способ действия, примененные
средства, наступившие (или возможные) результаты;
-
2) субъективная сторона – их мотивы, цели, степень сознания и предвидения последствий, характер волевого отношения к ним (желание, допущение и др.);
-
3) объект – та социальная ценность, на которую они направлены;
-
4) субъект – действующее лицо.
Таким образом, следует говорить об объективных и субъективных элементах всякого поступка, а также о его объекте – тех физических или социальных ценностях, на которые этот поступок направлен, и о субъекте поступка – действующем лице [6, с. 140].
Можно согласиться и с выводом В.Н. Кудрявцева о том, что эти основные элементы структуры поступка, выявленные правовыми науками на базе исследования юридически значимых актов, по сути дела, отражают более общие свойства любого человеческого деяния и имеют не только правовое, но и общепсихологическое содержание и значение [5, с. 14].
Вполне закономерен вопрос о специфических, чисто юридических элементах правовых действий. Раскрывая социальную природу правовой деятельности, ранее мы установили, что подлинным критерием юридического выступает возможность вынесения решения в случае возникновения спора, неопределенности, конфликта, отклонения и т. д. [14, с. 69.]. Конечно, следствием вынесения решения, если оно все-таки понадобится, является возможность его принудительного осуществления со стороны правоприменительных и правоохранительных органов. Следовательно, дополнительным критерием правовых действий может считаться официальное признание внутренней формы их выражения правильной и справедливой со стороны общества и государства, а также в случае необходимости – и юридически значимой.
Одним из проявлений такого признания может послужить закрепление определенных внутренних и внешних признаков правовых действий в правовых нормах, а последних – в знаковых системах (официальных документах). Поэтому норма права и предусматривает как внешнюю сторону поведения (содержание действий, средства, объекты, результаты), так и в определенных пределах внутреннюю (цели и мотивы поступка). Четкая регламентированность правовых действий отражает, с одной стороны, реальные возможности регулирования человеческого поведения правовыми средствами, а с другой – гарантирует от излишнего вмешательства в повседневную жизнь людей [7, с. 162].
Приходится констатировать, что важными оказываются разнообразные факторы, влияющие на юридическое измерение правовых действий. Юридически значимыми оказываются не только сами поведенческие акты, действия, но и операции, средства, предметы, субъекты с их целями и мотивами, способы организации и выражения вовне и т. д. Все это не может не учитываться в правовой сфере как влекущее за собой определенные правовые последствия.
Список литературы Духовный фактор и его роль в правовой деятельности
- Бакулина Л.Т. Политическая и правовая деятельность//Взаимодействие политики и права/науч. ред. и сост. Ю.С. Решетов. Казань, 2009.
- Вебер М. Основные социологические понятия//Избранные произведения. М., 1990.
- Вершинин А.П. Соотношение категорий «правовое поведение» и «правовая деятельность»//Юридическая деятельность: сущность, структура, виды. Ярославль, 1989.
- Карташов В.Н. Юридическая деятельность в социалистическом обществе. Ярославль, 1987.
- Кудрявцев В.Н. Право и поведение. М., 1978.
- Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. М., 1986.
- Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права. М., 1995.
- Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 1997. Ч. 1.
- Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1909. Т. 1.
- Поляков А.В. Общая теория права. СПб., 2001.
- Ребер А. Большой толковый психологический словарь. М., 2000. Т. 2.
- Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. М., 1995.
- Фаткуллин Ф.Н. Основы теории государства и права. Казань, 1995.
- Шагиева Р.В. Правовая деятельность: эволюция теоретических представлений и ее современное осмысление//Государство и право. 2014. № 6.