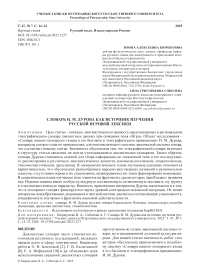Дурова как источник изучения русской игровой лексики
Автор: Кюршунова И.А., Соболева А.Г. Словарь И.М.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русский язык. Языки народов России
Статья в выпуске: 7 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи – показать лингвистическую ценность представленных в региональном этнографическом словаре диалектных данных при описании поля «Игра». Объект исследования – «Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении» И. М. Дурова, материалы которого еще не привлекались для лингвистического анализа лексической системы говора, что составляет новизну статьи. Значимость обусловлена тем, что этнографический словарь включает в структуру статьи сведения, не всегда учитывающиеся диалектными словарями. Таким образом, словарь Дурова становится основой для сбора информации по заявленной теме и его последующего рассмотрения в различных лингвистических аспектах (ономасиологическом, семантическом, этнолингвистическом, ареальном). В ономасиологическом плане изучаемые единицы отличаются вариативностью, что обусловлено разнообразием народно-разговорных названий в региональном социуме, отсутствием нормы в их становлении, незавершенностью этапа формирования номинации. В семантическом плане изучаемое поле членится на фрагменты, среди которых преобладают названия игр. Игровая лексика имеет особую культурную составляющую, позволяющую поставить эту группу в этнолингвистическую парадигму. Важность привлечения материалов Дурова заключается и в том, что в поморских говорах фиксируются черты древней новгородско-псковской миграции. Не менее интересны новообразования, родившиеся в частной системе диалекта и составляющие уникальность, специфичность изучаемого фрагмента языковой действительности.
Словарь, И. М. Дуров, русские говоры Карельского Поморья, лексика игры, способы номинации, ареальная лингвистика, этнолингвистика
Короткий адрес: https://sciup.org/147252142
IDR: 147252142 | УДК: 811.161.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1227
Текст научной статьи Дурова как источник изучения русской игровой лексики
Диалектные словари часто становятся источником различных исследований, входящих прежде всего в сферу лингвистики. Например, работы О. И. Блиновой [2], Г. В. Калиткиной [6], Е. А. Нефедовой [10] и др. объединяет идея использования сведений диалектных словарей
при изучении не только лексической системы говора, но и традиционной духовной культуры народа. Для нашей статьи значимость работ этих авторов обусловлена привлечением к подобному анализу «Словаря живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении» И. М. Дурова1.
Выбор словаря определен следующим: в нем фиксируются диалектные данные конца XIX – начала ХХ века, функционировавшие в Карельском Поморье, на территории, представляющей Русский Север. Русскоговорящее население региона сохранило в речи архаические черты на всех языковых уровнях в большей степени, чем в древних центрах (Новгороде и Пскове).
Методом сплошной выборки из словаря Дурова извлечены лексемы семантического поля «Игра». Обращение к этому фрагменту языковой действительности не является случайным. Игра, как известно, – неотъемлемая часть духовной культуры любого народа, а потому она часто входит в широкий спектр исследований гуманитарной направленности. Например, записи игр, сделанные И. М. Дуровым, находятся в поле зрения фольклористов и краеведов [7], [8], [14]. Однако анализ языковых особенностей игровых слов, зафиксированных в словаре, еще не был в поле зрения лингвистов.
Лингвистическая и этнолингвистическая специфика этой группы слов редко становится объектом и предметом исследования. В имеющихся на сегодняшний день статьях об изучении игрового пространства характеризуется состав диалектной игровой лексики, указаны ее семантические, мотивационные, ассоциативные особенности, специфика способов номинации, отмечается национально-культурная ценность этой группы слов [1], [3], [4], [9], [11], [12], [13] и др.2
Анализ материалов словаря Дурова органично встраивается в парадигму проведенных исследований. Однако научному сообществу представляются новые данные узколокальной системы севернорусского говора от середины XIX века до 30-х годов ХХ века, еще не становившиеся объектом специального комплексного лингвистического изучения, включающего такие аспекты, как ономасиологический, семантический, этнолингвистический, ареальный.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВАРЯ ДУРОВА КАК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА
Труд И. М. Дурова, созданный в начале ХХ века, исследователи ставят в ряд с известными региональными отечественными лексикографическими изданиями конца XIX века. Сам автор пишет, что в хронологическом и территориальном плане его словарь близок словарям Г. Куликовского и А. Подвысоцкого (Дуров: 17) и должен был заполнить нишу, образовавшуюся в лексикографическом описании севернорусских говоров после выхода словарей предшественников (Дуров: III).
Действительно, в центре внимания материалы, зафиксированные в русских говорах Беломорья, соотносимые с территорией Карелии.
Словарь не является строго лингвистическим, на что указывает слово «этнографический» в его названии. Это определение автора оказалось достаточно важным, а с информативной точки зрения необходимым для изучения лексики игры и ее особенностей в исследовании духовной культуры Поморья, поскольку в словаре через подробное описание реалий, явлений, действий находят отражение исторические, культурные, бытовые, природные, социальные особенности региона.
Так, современные диалектные словари, являющиеся по предмету и единицам описания преимущественно толковыми, редуцированно представляют информацию об игре. См. зоны толкования некоторых игровых слов в диалектных словарях: ЗАГАДА . Игра . Три ницы выпало, играешь в зага-ду. Медв . (СРГК: 2: 102); ЛЮ́ ЛЬКИ-КОЛЮ́ ЛЬКИ. Игра (какая?). Арх: В-Т. Василия Степановича Колюлей прозвали, всё в люльки-колюльки играл (В-Т, Михалевская) (СГРС: 7: 194); МЕЛЬНИЦА . Народная игра ( какая?). Давайте мельницу играть. Чуд . (СРГК: 3: 221) и т. д. Как видим, в зонах толкования недостаточно сведений, чтобы понять, какие игровые действия связаны с названными играми и что стоит за самой игрой. Причиной такой подачи слова, например, в СРГК является решение редакционной коллегии: если «цитатный материал картотеки Словаря не раскрывает значения или имеет дефектный характер, при диалектном слове приводится только его значение и география» (СРГК: 1: 9).
Информативно ограничены и зоны иллюстрации, хотя именно их рассматривают «как гипертекст бесписьменной традиционной культуры» [6: 13], который «носит спонтанный, неподготовленный характер, что позволяет увидеть языковое сознание народа и именно ту его сферу, где проявляется отношение к миру, его видение, его оценка» [6: 13]. Иллюстрации в статьях словаря Дурова отличаются подробными описаниями, ср.:
«Гусями играть. Детская массовая игра. Заключается она в следующем: все участвующие составляют стадо гусей и лебедей, кроме двух, один из коих становится хозяйкой, а другой волком. Гуси пасутся в поле, в то время как волк, притаившись где-либо в стороне, зорко следит за ними. Игра начинается кличем хозяйки нараспев: “Гуси-лебеди - домой!” Те отвечают: “Нам нельзя идти домой. / Что же так? / - Серый волк под горой. / Что делает? / - Сереньких да беленьких овечек ест. / Гуси-лебеди, домой!” При этих словах дети, подражая лету птиц, бегут к хозяйке, а волк старается кого-либо из них поймать. Пойманный отводится волком к себе в логово, а остальные при возгласе хозяйки: “Гу- си-лебеди, в поле!” снова бегут обратно, и опять волк имает одного из них. Игра эта продолжается до тех пор, пока волк не перетаскает у хозяйки всех птиц. После чего хозяйка и волк меняются ролями, и игра продолжается до тех пор, пока не надоест играющим. Сум.» (Дуров: 91).
Как видим, после толкования дан подробный сценарий игры, описаны основные атрибуты игры (игроки, время и место проведения, правила игры).
Объем и общая характеристика игровой лексики, представленной в словаре И. М. Дурова
Всего по теме «Игра» в словаре И. М. Дурова фиксируется 173 единицы, в структуре значения которых содержатся компоненты ‘игра’, ‘игрок’, ‘игрушка’, ‘играть’. Учитывается также информация, косвенно соотносимая с семанти- кой игры. Однако анализ собранного материала показал, что не вся игровая лексика дана в словаре в виде отдельных статей. Часть материала находится в иллюстративной зоне. Так, слово кокотки толкуется как ‘седьмая фигура в игре камешками в козла’ (Дуров: 174). Обращение к статье камешками играть показало, что в игре 15 фигур: однёрки, двойки, тройки, все в руку, куця, дристи, кокотки, помяло, колено, не в щёлк, в щёлк, вытуск, листовка, козловы однёрки, козёл Сум. (Дуров: 160). Однако остальные 14 из 15 фигур не представлены в словнике. Имеется еще ряд неучтенных Дуровым слов, обозначенных в статье знаком (*) и включенных в подсчеты3.
Собранный материал членится на семантические группы в соответствии с денотативным пространством игры и ее реалиями и отражен в табл. 1 в порядке убывания количества единиц в каждой группе (с сохранением написания в словаре).
Таблица 1
Примеры игровой лексики в словаре И. М. Дурова
Table 1
Examples of game vocabulary from Durov’s dictionary
Собранный материал
Кол-во
Игры: ба́ скамы игра́ ть, Бо́ риса жени́ ть, в битки́ игра́ ть, верту́ г, волося́ нка, *в рю́ хи (рю́ хами игра́ ть; игра́ в рю́ хи), гуся́ ми(ы) игра́ ть (игра́ ть гуся́ мы), жгут (жгу́ тишком игра́ ть; игра́ ть жгу́ тиком), забава, зо́ лотцё хорони́ ть, игра́ ть золоты́ ма воро́ тами, игра́ ть мечко́ м, игра́ ть ци́ ркой (циркой игра́ ть), игра́ ть шильцом, из-за сте́ нки (игра́ ть из-за сте́ нки), и́ мушка (игра́ ть имушкой), ка́ мешками игра́ ть (игра́ ть ка́ мешками), капу́ стица (капу́ стицу поло́ ть), ки́ слой круг (игра́ ть ки́ слым кру́ гом), *кла́ ссы (об кла́ ссах игра́ть; о кла́ ссах игра́ть), коро́ бка (отдава́ ть коро́ бку), коро́ ль (короля́ игра́ ть, короля́ топта́ ть), ко́ сти, кра́ ски (игра́ ть кра́ скамы), кругова́я, лу́ нками игра́ ть (в лу́ нки игра́ ть; игра́ ть в лу́ нки; о лу́ нках), одинка́ па́рить, отдавать коробку, пало́ цька (пало́ чка-воро́ вочка), па́рками ходи́ ть, попа́ гоня́ ть, продо́ льня шахарда́ , стрельцём игра́ ть, стригу́ -стригу́ ове́ чку, у́ тушка, холо́ бец, *хорону́ шка (хорону́ шкой игра́ ть), царь-Горо́ х (игра́ ть царём горо́ хом), шара́ гоня́ ть, Шу́ рика по́ лстить, щильцём игра́ ть
Предметы, использующиеся в играх: балаба́ лка, *ба́ ска, бито́ к, бра́ льница, гнездо́ , городки́ , го́ сья, ди́ ка, жгут, жгу́ тик, жох, *зо́ лотцё, игро́ мой, *ка́ мешек, *кле́ скальница, мецёк (ме́ цик), па́лка, па́ лоцька, пли́ тка, поп, рю́ ха (рю́ шка), флот, ци́ рка, *шар, швырку́ нья, щилéц (шильцё)
Игровые действия: бéлить, вы́ играть козёл, вы́ скакать, гала́дава́ть, зажга́ ть, заруби́ ть, идти́ на го́ лос, *има́ ть, клеска́ ть, козыря́ ть, мета́ тьце, наигра́ ться, *обе́ лить, отдава́ ть го́ лос, па́ рить, пёрнуть, плеса́ ть, сгу́ зать, транжи́ рить, *тузи́ ть, *хорони́ ть, цю́ ркаться; (бегать) в дого́ нку, озапуски
Фигуры, используемые в играх: ви́ ни, *все в ру́ ку, *вы́ пуск, гнездо́, *дво́ йки, *дри́ сти, *в щёлк, *козёл, *козло́ вы однёрки, кокотки́ , *колено, *ку́ ця, *ли́ стовка, *однёрки, *помя́ ло, *тро́ йки, *не в щёлк
|
Игровые локусы: *воро́ та, го́род, городки́ , *горшо́ к, *закружье, класс, кон, *круг, лудни́ к, лу́ нка, са́ ло, *стéнка, *у́ гол(о́ к), хорону́ шка, *черта́ |
15 |
|
Особые игровые специализации: *вы́ шник, *другой, кали́ ка перехо́ дна (кали́ ка перехо́ жа), *кра́ля, *лишнёй, ма́ тка (ма́ тика), *ни́ жник, *пéрвый, *позакружники, *ски́ снувший, *стояльщик, *третий |
13 |
|
Игровые персонажи: *во́ лк(и), *гусь(и), *доброй молодец, *кра́ сна девица, *коро́ ль, *овéчка (*овца́), *слуга́, *хозя́ ин, *хозя́ йка, *царь, царь-Горо́ х, *черт (*цёрт) |
12 |
|
Игрушки: бо́ бки (бобо́ цьки, бобу́ шки), верту́ шка, *ка́ мешки, ку́ кла (ку́ колка), побряку́ шка, пуга́ ць, стре́лка, сту́льчик, тарайду́ шка, трещётка, шку́ на (шку́ нка) |
11 |
|
Игровые выражения: под оста́ ток, отда́ йте голос, ступа́ й на голос, па́лки-балаба́лки, дава́ ть локти |
5 |
|
Характеристика игроков: бакла́ н, заба́ ва, зае́ да |
3 |
|
Место проведения игр: бу́ гра, и́ грище, поля́ нка |
3 |
Игровые явления: гал ‘высота полета мяча при игре’
Игровые защитные слова: чур (цюр)
Несмотря на то что в словаре могли быть лакуны, обусловленные отбором материала автором4, фактологическую базу, связанную с изучением игровой лексики по данным этого лексикографического источника, можно считать в целом достаточной для включения в различные аспекты исследования. Каждый из них может претендовать на отдельное подробное описание и введен в более широкие сопоставительные (территориальные, языковые и под.) рамки. В статье обрисован возможный исследовательский контур каждого из них с опорой на описательный метод с элементами компонентного анализа, а также статистический, сравнительно-сопоставительный, ареальный.
Анализ игровой лексики, включенной в словарь И. М. Дурова
Способы номинации игровых слов. Высокая вариативность игровых слов позволяет обратиться к вопросу о способах их номинации. Как видим в табл. 1, наибольшая вариативность свойственна названиям игр (практически каждому названию игры соответствует два и более номинативных варианта). В таблице варианты указаны в скобках: палоцька ( палочка-воровочка ); лунками играть ( в лунки играть; играть в лунки ; о лунках) и т. д., а у Дурова – с помощью отсылочного толкования: «Бобушки <.> То же, что Бобки. Повс.» (Дуров: 32), «В лунки играть. См. Лунками играть» (Дуров: 32).
Взяв за основу материалы словаря Дурова, трудно понять, какая номинация является точкой отсчета - двусловная ( капустицу полоть, короля топтать ) или однословная ( капустица, коро́ ль ). Статистические показатели дают возможность думать, что однословная номинация не была первичной, «чистых» однословных номинаций всего пять (волосянка, кости, круговая, утушка, холобец), остальные (как например: коробка, палоцька и др.) имеют варианты с глагольными сочетаниями, где глагол – составной элемент названия.
Большая часть вариантов обусловлена наличием или отсутствием в названии слова игра́ ть ( имушка / играть имушкой ; краски / красками игра ть ), а также его позицией в двусловной номинации ( гусямы играть / играть гусямы ). Здесь сложно определить какую-либо строгую закономерность в следовании компонентов. Вероятно, автор словаря в подаче материала идет за диа-лектоносителями, в речи которых одновременно могли употребляться разные варианты названия.
Возможность сохранения слова играть в структуре названия поддерживается номинациями с другими глагольными лексемами (см. в табл. 1: гонЯть, женить, парить, полоть и др.). При этом в конструкции с глаголом существительное чаще всего стоит в форме Тв. п. ( баскамы играть, играть мечком и т. д.), где указывается преимущественно орудие игры; Вин. п. ( Бориса женить, золотцё хоронить и т. д.), реже Род. п. ( играть из-за стенки ). В некоторых случаях наблюдается диалектная особенность, заключающаяся в использовании беспредложного управления вместо предложного: играть имушкой, играть царём-горохом; королЯ играть, хоронушкой играть и т. д. вместо играть в имушки, в царя-гороха; в короля играть, в хоронушку играть.
Характерно, что в Словаре русских народных говоров, отражающем широкую географию диалектов, названия игр с глагольным компонентом обычно квалифицируются как элементы устойчивого сочетания и маркируются знаком ( ◊ ), ср. примеры с глаголами: ◊ играть бараном ‘играть в жмурки’ Ряз. (СРНГ: 12: 67), ◊ в беглого играть ‘играть в лапту’ Дон. (СРНГ: 2: 169, 170) и т. д. В Словаре говоров Русского Севера в таких случаях может быть выбрана однокомпонентная номинация, ср. название игры лу нки ‘игра, заключающаяся в том, чтобы загонять мячик в углубление в земле’ Арх. (СГРС: 7: 162), при этом у Дурова игра ть в лунки (а также в лунки играть, лунками играть - ‘одна из игр в мяч’ (Дуров: 152, 59, 213)). Наличие однословных номинаций свидетельствует, с одной стороны, о неустойчивости фразеологизма, с другой – об особой функции глагола в названии игр.
Таким образом, факт существования вариантов в одной территориально ограниченной диалектной системе – это, без сомнения, важный показатель процесса поиска наилучшего способа номинации игры, свидетельство того, что данная группа лексики находилась в указанное время (начало ХХ века) на этапе формирования и процесс этот нельзя признать завершенным.
Семантический и этнолингвистический аспекты изучения игровых номинаций. Материалы, представленные в табл. 1, с разделением слов на группы можно считать своеобразной базой данных, идеографической сеткой поля «Игра» с интегрирующей семой ‘игра’. Каждая выделенная группа слов – это фрагмент поля, между единицами которого существуют различные отношения: деривационные (гал - галадавать; хоронить - хоронушки и т. д.); синонимические (щилец - цирка; щильцём играть - стрельцом играть; побрякушка - тарандушка и т. д.); антонимические, противопоставленные в контексте игры (слугам - коро>ль, волки - овцы и т. д.) и др.
Как видим, количество слов, входящих в группы поля, неодинаковое. Преобладание названий игр обусловлено разнообразием развлечений и тем, что именно игра является центром денотативного игрового пространства, эти названия – самые актуальные члены поля. При этом за игровой лексикой с переносным значением стоит в большинстве своем метонимический перенос, формирующий такую семантическую транспозицию, которая заставляет задуматься о пограничном статусе игровой лексики, ее близости к специальной лексике, а также к фольклорному слову. В последнем случае сферой бытования является устная речь, характеризующаяся особым разговорным колоритом, заключающимся в выразительности, образности, особенно, вероятно, на начальных этапах появления самой игры как процесса.
Семантическая вторичность большей части слов игровой сферы, их соотношение с бытовыми реалиями, культурной средой социума, переосмысливавшего в игре картину мира, – косвенное свидетельство того, что игра занимала особое место в системе ценностей русского народа. В. В. Иванов и В . Н. Топоров высказывают мысль о том, что «детские игры в значительной степени сохраняют элементы схемы основного мифа или так или иначе связанных с ним ритуалов», поэтому их исследование в семантическом и этнолингвистическом ключе представляет дополнительный интерес [5: 71]. Игра со временем трансформировалась, оторвалась от мифа, обросла новообразованиями, обусловленными изменениями в правилах игры, отборе определенного количества участников игры и проч. Однако устойчивое использование в игре особых названий предметов, явлений, действий не может быть случайным.
Архаические верования, связанные с игрой. Кратко опишем возможные рефлексы древних верований, используя материалы словаря. Это названия границ, пространственных ориентиров (класс, нИжник, стенка и др.); социальных ролей (слуга, царь и др.); мифических существ (черт); растений (горох, капуста и др.); числовых рядов (однёрки, двойки и др.) и проч. номинации, определяющие многомерность поля и многообразие мира, окружающего человека. Например, через зоологический код (волк, овца и др.) просматривается значимость представителя животного мира для социума, как следствие, наблюдается включение отдельных названий животных в архетипическую оппозицию «свой – чужой». Так, при интерпретации игры гусями играть (см. описание выше) обратим внимание на то, что в «чужой контекст» ставится волк – персонаж, с которым сопряжено злое начало, известное во множестве фольклорных нарративов. В различных ритуалах – свадебных, при лечении человека и скота – используются «волчьи» обереги (зубы, лапа, хвост, шерсть). Волк соотносится с чертом, нечистой силой, умершими, связан с лешим, с собакой (СД: 1: 411–418). Существенно, что в игре волк представляет опасность для овечек. Овца (овечка) - это тоже мифологизированная жертва, являющаяся при этом самым востребованным домашним животным на севере из-за простоты ухода и использования в быту (шерсть, мясо). Волк в игре ловит гусей-лебедей, которые не дифференцированы между собой и с которыми также связан комплекс различных этнокультурных характеристик (демонологических, любовно-брачных, соотносимых с деторождением и др.) (СД: 1: 572–575; СД: 3: 88–89). Важная деталь игры – смена ролей волка и хозяйки, отражающая, как представляется, оборотничество.
Противопоставление «свой – чужой» видится и в названиях социальных ролей в игре ( кали́ ка перехожая, лишнёй, хозяин ). Некоторые из них являются инновациями, соотносимыми с христианскими реалиями ( поп ), здесь же календарные имена ( Борис, возможно, Шурик).
Отмечено, что способом деления на «свое» и «чужое» являются различные структуры пространства (СД: 3: 11–12). К ним относим следующие игровые рубежи и зоны (ворота, город , круг , черта и т. д.), зафиксированные Дуровым. Особую значимость имеет круг , выступающий как граница замкнутого, охраняемого пространства (СД: 3: 11–12). Идея круга более характерна для хоровода, ср. с описанными в словаре хороводными играми: женить, капустица , а также представленная в играх жгут, золотцё хоронить, кИслый круг, круговая . Вероятно, сюда следует отнести игру город, где «круговая геометрия» имплицитно усматривается в таких производных, как городи ть, огороди ть .
Ряд примеров, когда через изучение игровой лексики можно провести аналогии с ритуалами, обрядами, соотносимыми с различными видами деятельности человека в прошлом, может быть продолжен.
Ареальные особенности игровых слов, представленных в словаре И. М. Дурова. Анализ материала показал, что почти 60 % игровой лек- сики, согласно словарю Дурова, имеет помету «Повс.» – «повсеместно», то есть бытует в селах и городах Карельского Поморья: Вирме, Выго-строве, Кеми, Колежме, Нюхче, Сороке, Сумском Посаде, Сухом, Шижне, Шуерецком. Высокий процент слов исследуемого поля (почти 40 %) отмечен также в Сумпосаде, чье лексическое пространство, как уже было сказано, Дуров знал лучше всего. Однако все ли они были только поморскими? Насколько поморский материал пересекается с данными по другим регионам? С этой целью сопоставим материалы Дурова с географией слов из СРНГ. Некоторые результаты совпадения игровых номинаций даны в табл. 2.
Таблица 2
Сопоставление игровых номинаций по территориям
Table 2
Comparison of game names by territories
|
Дуров |
<«o |
и о К |
и С |
О S н к |
И X S |
«я |
^ |
С |
4 л о и и |
и о S |
й о й |
ri W рц |
й СЗ а |
а & |
|||
|
39 |
22 |
6 |
8 |
4 |
3 |
6 |
5 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
3 |
3 |
2 |
1 |
3 |
Как видим, из 173 лексических единиц только 39 выходят за пределы Карельского Поморья.
Большая часть игровой лексики представлена только у Дурова и является поморской, узколокальной: балаба́ лка, верту́ г, в щёлк, вы́ пуск, га́ ладава́ ть, дри́ сти, игра́ ть ци́ ркой, козло́ вы од-нёрки, ли́ стовка, однёрки, позакружники, помя́ ло, сгу́зат ь, сту́льчик, стоя́ льщик, шара́ гоня́ ть, швырку́нья, шиле́ ц, Шу́ рика по́лстить и др. Именно эти названия отражают творческий потенциал местных жителей.
Возможно, часть лексем имела более широкую географию, их номинации трансформировались в условиях поморского диалекта. Так, игре гуся́ мы игра́ ть Сум. (Дуров: 91) соответствует игра гуси-лебеди , известная широкому кругу русских говоров Карелии (СРНГ: 7: 248). Подобное наблюдается в играх стрельцём игра́ ть, одинка́ па́ рить, волося́ нка . В последнем случае сумпосадская игра девочек волося́ нка (Дуров: 64) перекликается по отдельным компонентам с игрой тяну́ть голося́ нку , известной Нижегор., Сев.-Двин. (СРНГ: 6: 329), где в основу положены разные мотивировочные признаки.
Думается, это закономерный процесс, когда в условиях периферийного региона развивается собственная лексическая база игры с разного рода особенностями названий игр, игрушек, предметов, игровых действий и т. п. Ареальную же вариативность, проявившуюся в игровой сфере, в данном случае можно рассматривать как особый признак системности идеографической сферы «Игра».
Небольшое количество узколокальных слов восходит к прибалтийско-финским основам, к которым присоединился исконно русский фор- мант, свидетельствующий об адаптации слова в русской языковой системе: лудник ‘вырубленная во льду продолговатая ямка, являющаяся составной частью городка при игре в рюхи’ Сум. и фин. luoto, эст. lood, вод. looto, ливв. luodo, люд. luod ‘подводная скала, небольшой остров’ (РДЭС: 455); тарайдушка ‘детская погремушка, деревянная или металлическая игрушка, наполненная шариками, издающими при качании раскатистый треск или грохот’ Повс. (Дуров: 402) и вепс. taraita ‘греметь, грохотать’ (РДЭС: 781). Неславянские основы отмечены также у игровых слов ба́ ска, бу́ гра, флот, шкýна, возможно, чи́ рка.
Небольшой объем этой группы слов – показатель того, что лексика игры, несмотря на близкое соседство инославянских этносов, в большей степени – часть общерусского или даже общеславянского фонда.
Судя по показателям табл. 2, Карельское Поморье тесно связано с Архангельским Поморьем, то есть в СРНГ слова сопровождают географические пометы: Арх., Онеж., Карг., Мезен., Холмогор., Шенк.; нами учитываются также пометы Тер., Канд., Кольск. – терские говоры Белого и Баренцева морей. Эти территории схожи по признакам наибольшей географической близости, более тесным контактам, общности бытовых и культурных условий в прошлом.
См. примеры описания конкретных соответствий:
игра ба́ сками игра́ ть отмечена у Дурова в Сумском Посаде (Дуров: 24). Думается, с этой же территорией соотносится помета «Белом.» в (СРГК: 1: 44). При этом слово ба́ ска ‘игральная бабка’, сопровождаемая иллюстрацией 1858 года: «Играем в баски. Будемте игра́ ть басками» в СРНГ имеет пометы «Арх. Кольск., Онеж.» (СРНГ: 2: 131); здесь же, вероятно, как семантически производное учтем ба́ ска ‘всякая детская игрушка; вещь, отданная детям как игрушка’ Шенк. Арх. (Там же);
гал – ‘высота полета мяча при игре’ Сум. (Дуров: 72), ср. ◊ В гал - ‘вверх (обычно высоко)’ Арх. (СРНГ: 6: 103) и галом ‘игра в мяч галом’ Онеж. КАССР (СРНГ: 6: 116–117);
ди́ ка – ‘упавшая плоскою стороною наружу баска – биток при игре в бабки во флот’ Повс. (Дуров: 98), ср. ‘то же’ Арх. (СРНГ: 7: 55);
название играть золотыма воротами бытует в поморских Сумпосаде, Вирме, Колежме (Дуров: 152) и в пермских говорах (СРНГ: 11: 333). При этом именно сведения из словаря Дурова содержат данные о правилах игры, поскольку в пермских материалах сохранилось только название. Такую игру знали в Архангельской области, где фиксируется слово ворота с игровой семантикой ‘проход, который образуют пары во время игры’ Онеж. (СРГК: 1: 229).
В группу региональных соответствий включаем также слова бральница , ворота, закружье, имушка, кислой круг, клескать, палочка (палочка-воро́ вочка ).
Остальная часть поморских материалов имеет более широкую географическую привязку, отражающую связь с древними центрами Руси, историей появления русских в Карелии. О новгородско-псковской миграции свидетельствуют зафиксированные у Дурова лексемы бобки, бобочки, бобушки, город, городок, двойки, жгут, жгутить, зарубить, капустица, король, королёк, овечка . Эти слова известны и другим говорам Русского Севера, также испытавшим воздействие Новгорода и Пскова, и сопровождаются в СРНГ такими пометами, как Петерб. (Ленингр.), Тихв., Твер., Волог., Костр. Связь с Москвой обозначена в меньших объемах такими лексическими единицами: вышник, жох, кости.
Отдельные лексемы имеют достаточно узкий территориальный коридор, указывая на связь поморских диалектов с каким-то одним говором, являющимся географически сопредельным. Например, слова белить, женить, бугра, гос(т)ья, пли тка отмечены помимо Карельского Поморья еще и в вологодских говорах: го сья – ‘при игре в рюхи: рюха, выбитая с городка, но вылетевшая от удара вне черты городка’ Сум. (Дуров:
86), ср. го стья ‘при игре в городки – рюха, которая падает впереди передней черты’ Волог. (СРНГ: 7: 98); плитка – ‘в игре в бабки плоский камешек или оловянный плиткообразный слиток’ Повс. (Дуров: 302), ср. ‘то же’ Волог. (СРНГ: 27: 141).
Итак, географическое распределение игровой лексики связано с освоением Севера русскими, с тем, что в пределах региона создается собственный уникальный игровой ландшафт, имеющий по преимуществу общерусскую базу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, «Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении» И. М. Дурова – важный источник исследования лексической системы северного диалекта, ограниченного территорией карельского берега Белого моря. Представленная в нем лексика игры отличается большей целостностью описания, чем в современной диалектографии, что обусловлено этнографической направленностью словаря, позволяющей изучить отобранные материалы в различных аспектах, каждый из которых претендует на отдельное подробное описание и в перспективе может быть включен в более широкие сопоставительные (территориальные, языковые и под.) рамки.
Как оказалось, даже на небольшой территории игровому пространству свойственна высокая вариативность, связанная с поиском оптимальной номинации. Семантический анализ показал многообразие тематического поля «Игра», обладающего всеми признаками системности. Оно членится на группы, среди которых наиболее востребованы названия игр, что свидетельствует о важности игрового процесса для диалектного социума и об отражении в игровых номинациях значимых элементов, представляющих рефлексы древних верований, различные коды народной культуры. Особо выделяется архетипическое противопоставление «свой – чужой», в которое вписывается достаточно большое количество кодов. Ареальный подход показал, что определенная часть игровой лексики – результат модификаций названий внутри говоров Поморья, жители которого или преобразовали имеющиеся слова игрового общерусского и общеславянского пространства, или создали собственные номинации на этой базе.