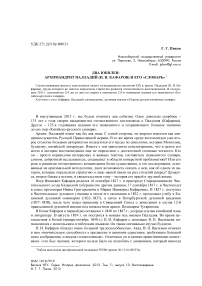Два юбилея: архимандрит палладий (П. И. Кафаров) и его «Словарь»
Автор: Пиков Геннадий Геннадьевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 10 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена жизни и деятельности одного из выдающихся синологов XIX в. архим. Палладия (П. И. Кафарова), труды которого во многом определили стратегию развития отечественного востоковедения. В следующем 2013 г. исполняется 135 лет со дня его смерти и отмечается 125-я годовщина издания его знаменитого «Китайско-русского словаря».
Кафаров, палладий, китаеведение, духовная миссия в пекине, русско-китайские словари
Короткий адрес: https://sciup.org/14737677
IDR: 14737677 | УДК: 271.2(510)+809.51
Текст научной статьи Два юбилея: архимандрит палладий (П. И. Кафаров) и его «Словарь»
В наступающем 2013 г. мы будем отмечать два события. Одно довольно скорбное – 135 лет с года смерти выдающегося отечественного востоковеда о. Палладия (Кафарова). Другое – 125-я годовщина издания его знаменитого и сохраняющего большое значение до сих пор «Китайско-русского словаря».
Архим. Палладий имеет как бы два лица. С одной стороны, он широко известен как священнослужитель Русской Православной церкви. В то же время среди востоковедов уже второе столетие большим авторитетом пользуются его труды по синологии, истории Монголии, буддизму, китайской литературе. Вместе с тем приходится констатировать, что в целом его место в истории востоковедения еще не определено с достаточной степенью четкости. Кто он – просто переводчик интересных и важных текстов, составитель знаменитого словаря, словом, добротный исследователь, специалист в области конкретной проблематики? Или его роль в развитии отечественного китаеведения более существенна, и его исследования, основанные на оригинальной методологии, дают возможность сказать о нем, как об одном из авторов, которые определили стратегию и лицо нашей науки на ряд столетий вперед? Думается, второе ближе к истине, и свидетельством тому – история его яркой и трудной жизни.
Петр Иванович Кафаров родился 16 сентября 1817 г. в пригороде Старошешминске Чистопольского уезда Казанской губернии (по другим данным, 17 сентября 1817 г. в Чистополе) в семье протоиерея Ивана Григорьевича и Марии Ивановны Кафаровых. В 1827 г. поступил в Чистопольское духовное училище и после его окончания в 1832 г. продолжил учебу в Казанской духовной семинарии (1832–1837), а затем в Петербургской духовной академии (1837–1838), после чего подал прошение в Священный Синод о зачислении в состав 12-й православной духовной миссии под начальством архим. Поликарпа Тугаринова.
В Китае Кафаров в первый раз оставался с 1840 по 1847 г., усердно изучая китайский язык и литературу. В августе 1839 г. он постригся в монахи под именем Палладия. Во время путешествия в Китай (январь-октябрь 1840 г.) П. И. Кафаров с помощью В. П. Васильева познакомился с монгольским и тибетским языками. Он также специально изучал буддизм.
П. И. Кафаров обладал очень большой трудоспособностью. Акад. В. П. Васильев отмечал в нем «значительную способность к предметам и занятиям серьезным, требующим большой силы соображения, и весьма головоломным». Отличался он и своими нравственными качествами: «это был человек, которого нельзя было не полюбить с уважением, который никогда
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-01-00327а).
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 10: Востоковедение © Г. Г. Пиков, 2012
никого не обидит и которого никто не захочет обидеть или оскорбить» [Скачков, 1958. С. 209]. По рекомендации начальника миссии архим. Поликарпа его отозвали в Петербург как кандидата на должность начальника следующей миссии. Перед отъездом он передал В. П. Васильеву все свои переводы из буддийских книг [Хохлов, 1979. С. 27–28], а в столицу привез большое собрание книг на восточных языках для библиотеки Азиатского департамента. В Петербурге он работает над составлением проекта занятий по китайскому языку для членов будущей миссии.
В ноябре 1848 г. о. Палладий был посвящен в сан архимандрита с утверждением в звании начальника очередной 13-й Пекинской духовной миссии (1850–1858). В этом качестве он пробыл в Пекине 10 лет (до 25 мая 1859 г.) Здесь он активно занимался астрономическими наблюдениями, сбором образцов растений и животных, исследованиями сельского хозяйства и ремесленного производства китайцев и монголов, много переводил восточные сочинения, написал «Исторический очерк древнего буддизма». Будучи свидетелем тайпинского движения, о. Палладий активно собирал информацию об этих событиях [Кафаров, 1860]. К его большому опыту в области китаеведения нередко обращались за советом дипломатические представители (см.: [Кржыжановский, 1914]). Со знанием дела он помогал российскому послу графу Е. В. Путятину вести дипломатические переговоры с цинским правительством и участвовал в заключении в 1858 г. Тяньцзинского договора [Скачков, 1977. С. 169]. Русская православная миссия в Пекине была одновременно чем-то вроде посольства России. Она готовила специалистов по языку и истории. Многие будущие ученые прошли ее школу. Архим. Палладий уже при жизни считался выдающимся китаеведом. Акад. В. М. Алексеев считал, что Н. Я. Бичурин, В. П.Васильев и П. И. Кафаров составили «знаменитую русскую триаду, которая использовала свое пребывание в Китае достойным образом» [Алексеев, 1982. С. 57]. Не менее важно и то, что миссия стала уникальным объединением ученых и писателей, которые не только знакомили русскую общественность с историей и культурой Восточной Азии, но и в своих сочинениях проводили смелые и достаточно вольнодумные параллели с Европой и Россией, ставили весьма рискованные для того времени политические и социальные вопросы.
В 1859 г. П. И. Кафаров вернулся на родину. В 1860–1864 гг. он находился в Риме в качестве настоятеля церкви русского посольства в Риме, сблизился со многими известными русскими художниками и либеральными деятелями, сочувственно относился к движению Дж. Гарибальди, увлекался трудами социалиста-утописта Р. Оуэна, в идеях которого находил много общего со своими взглядами. Результатом его пребывания в Риме, где он успел изучить итальянский язык, были «Письма из Рима», касавшиеся исследования памятников христианской древности.
В 1865–1878 гг. П. И. Кафаров снова в Китае во главе православной миссии. Здесь он особенно активно занимается научной деятельностью, в частности работает над «Китайско-русским словарем». В этот период он написал комментарий к книге Марко Поло, осуществил перевод и издание на русском языке китайских источников, которые до сих пор находятся в научном обороте: «Путешествие даосского монаха Чан Чуня на Запад», «Старинное монгольское сказание о Чингисхане», «Старинное китайское сказание о Чингисхане» [Кафаров, 1866; 1867; 1877; 1902; Палладий, 1866]. Ряд работ посвящены им истории религий в Китае (буддизм, христианство, ислам), истории связей Китая с другими народами, русско-китайским отношениям [Кафаров, 1852; 1853; 1863; 1872; 2001].
К нему, как знатоку истории и языка азиатских стран, обратилось руководство Русского императорского географического общества с беспрецедентной просьбой возглавить экспедицию по изучению этнографии и археологии Дальнего Востока (см.: [Панов, 1898]). П. И. Ка-фаров в сопровождении топографа Гавриила Нахвальных выехал из Пекина прямо на север – через горный проход Шаньхайгуань к Гирину, затем в район Благовещенска на Амуре. Побывали они на Уссури, оз. Ханка и вышли на Владивосток, познакомившись с землей могущественных народов севера – шивэй и амурских мохэ. В Приморье Палладий занимался изучением древних памятников этого края. Во время путешествия были открыты места древних городов и укреплений, собраны богатейшие сведения о Маньчжурии, Дальнем Востоке, Корее. Итогом стал ряд донесений и статей П. И. Кафарова по этнографии и географии этих земель и знаменитый «Исторический очерк Уссурийского края» (см.: [Кафаров, 1879] и др.]) 1.
В 1878 г. П. И. Кафаров заболел и 2 октября 1878 г. выехал в Россию через Шанхай и Западную Европу. Он скоропостижно скончался 6 декабря 1878 г. от аневризмы в Марселе [Кафаров.., 1878; К некрологу.., 1879], а 2 февраля 1879 г. состоялось торжественное перенесение его гроба в Ниццу, на православное кладбище. Земной путь П. И. Кафарова закончился, но и посмертно выходили его труды: «Китайская литература магометан» (1887), «Дорожные заметки на пути в Монголию в 1847 и 1859 гг.» (1892) и др. 2
Особое место в творчестве Палладия занимает составление «Китайско-русского словаря», который был окончен уже после его смерти служащим Русской миссии в Пекине П. С. Поповым [Китайско-русский словарь, 1888]. В нем приведено и объяснено 11 868 иероглифов. П. И. Кафаров перед началом работы задался «мыслью дать словарю энциклопедический характер, т. е. совместить в нем разнообразные сведения о Китае, в особенности уяснить философские и религиозные системы» [Хохлов, 1979. С. 4]. Этот словарь, ставший, по собственному признанию автора, «выразителем его воззрений на Китай во всех его проявлениях», его «лебединой песней» [Китайско-русский словарь, 1888. С. IV], «сделал русской синологии честь» [Алексеев, 1956. С. 81]. Он и поныне является настольной книгой для китаеведов [Се-менас, 1979. С. 191], а в 2010 г. репринтное переиздание этого уникального словаря было подготовлено к изданию коллективом сотрудников Восточного факультета Санкт-Петербургского университета и напечатано при финансовой поддержке Штаб-квартиры Института Конфуция. Это еще одно свидетельство актуальности трудов о. Палладия.
Архим. Палладий – создатель общепринятой транскрипции китайского языка на русский. Основы были заложены еще Н. Я. Бичуриным в 1839 г., но широкую известность эта система приобрела после выхода в свет словаря. Она и поныне используется с незначительными изменениями [Мацаев, Орлов, 1966].
Огромный вклад П. И. Кафаров внес в развитие отечественного монголоведения, существенно расширив его источниковую базу [Мункуев, 1979. C. 3]. Именно он нашел и сделал первый краткий перевод на русский язык «Старинного китайского сказания о Чингис-хане» 3, которое получило широкую известность как «Сокровенное сказание монголов». Он сделал первую попытку передать китайскую транскрипцию текста кириллицей. Китайский текст переведен им на русский язык с обстоятельными примечаниями. «Сказание» было окончено, по предположению некоторых специалистов, в 1240 г., а значит, принадлежит к числу ранних сочинений о монголах. Это вершина монгольской литературы [Чингисиана, 2009], первый крупный литературный памятник монгольского языка, имеющий огромную ценность для историков, филологов, этнографов. Любопытно, что текст впервые вышел в свет лишь при династии Мин. По мнению П. И. Кафарова, он носил энциклопедический характер: «С сих пор (наши) посланцы, часто ездившие в стèпи, могли понимать положение (дел) и намерения Монголов» [Палладий, 1866. С. 5].
Даже на одном этом примере видно, что архим. Палладий являлся решительным сторонником создания исследований исключительно на основе письменных памятников. По мнению В. М. Алексеева [1945. С. 175], Кафаров был «первым ученым, применившим к синологии метод работы только по источникам, а не по стереотипным информациям китайских энциклопедистов» (см. также: [Алексеев, 1956. С. 81–82]).
Филологическая база как основа исследования стала неизменной традицией русской школы китаеведения [Скачков, 1977. С. 187, 188]. Это свидетельствовало о формировании обширного источниковедческого пространства, крайне важного для дальнейшего развития науки.
Работая с китайскими источниками, о. Палладий также впервые ввел в широкий научный оборот уникальные сведения из «Юань ши» об олосах [Кафаров, 1872. С. 47–49; 1894], т. е.
русских людях, составивших в XIV в. отдельный десятитысячный полк Пекинской гвардии (см. также: [Шевелев, 2003]).
В целом, архим. Палладий «создал ряд трудов, которые и по сей день являются ценнейшим материалом для любого историка-китаеведа» [Скачков, 1977. С. 178].