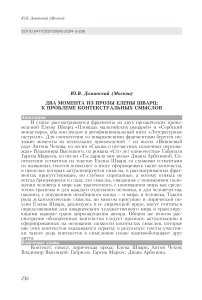Два момента из прозы Елены Шварц: к проблеме контекстуальных смыслов
Автор: Доманский Ю.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются фрагменты из двух прозаических произведений Елены Шварц «Площадь мальтийских рыцарей» и «Сербский монастырь», оба они входят в автофикциональный цикл «Литературные гастроли». Для соотнесения со шварцевскими фрагментами берутся похожие моменты из нескольких произведений - из пьесы «Вишневый сад» Антона Чехова, из песни «Сказка о несчастных сказочных персонажах» Владимира Высоцкого, из романа «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса, из песни «Ты дарила мне розы» Дианы Арбениной. Соотнесение сегментов из текстов Елены Шварц со схожими сегментами из названных текстов позволяет в итоге сформировать такие контексты, в пределах которых актуализируются смыслы, в рассматриваемых фрагментах присутствующие, но глубоко спрятанные, а потому отнюдь не всегда бросающиеся в глаза; это смыслы, связанные с пониманием положения человека в мире как трагического, с пониманием мира как средоточия трагизма и для каждого отдельного человека, и для человечества, наконец, с ощущением неизбежного конца - и мира, и человека. Такого рода эсхатологические смыслы, во многом присущие и лирической поэзии Елены Шварц, реализуясь в ее лирической прозе, могут считаться определяющими для шварцевского художественного мира и транслирующими важные грани мироощущения автора. Общим же итогом рассмотрения обозначенных контекстов следует признать актуализацию в сформированных на основании схожести контекстах смыслов, которые вне этих контекстов оказываются скрыты; в результате тексты-участники такого рода контекстов в смысловом плане взаимообогащают друг друга.
Контекст, смысл, лирическая проза, елена шварц, антон чехов, владимир высоцкий, габриэль гарсиа маркес, диана арбенина
Короткий адрес: https://sciup.org/149146744
IDR: 149146744
Текст научной статьи Два момента из прозы Елены Шварц: к проблеме контекстуальных смыслов
K поэзии Елены Шварц филологи обращаются довольно часто (вот лишь некоторые работы недавнего времени: [Воронцова 2012; Воронцова 2013; Джамалова 2023; Дубаков, Го 2022; Зотеев 2011; Марков 2020a; Марков 2020b, Романов 2020a; Романов 2020b; Романов 2021; Пронин 2024; Самойленко 2020; Суханова 2019]), тогда как ее проза остается пока что вне пристального исследовательского внимания. А между тем и проза Елены Шварц участвует в формировании неповторимого художественного мира автора, будучи при этом не менее интересна, чем шварцевская поэзия.
Наша задача в данной статье довольно скромная — посмотреть с точки зрения смыслов, порождаемых взаимодействием с «чужими» текстами, на два момента из цикла Елены Шварц «Литературные гастроли» (сам цикл являет собой серию небольших текстов, которые можно определить как автофикциональные травелоги). Первый из заинтересовавших нас моментов расположен в тексте «Площадь мальтийских рыцарей», второй — в тексте «Сербский монастырь».
«Площадь мальтийский рыцарей» завершается следующим образом:
Площадь на вершине холма — это не видно, но чувствуется (потому, наверно, что от ближней церкви св. Алексея открывается вид на Тибр и Рим), за забором, где капитул и куда никто не входит и не выходит (вроде бы), по ночам начинает кричать птица, не то выпь, не то филин. Но не мальтийский сокол. И мне казалось, когда я ночами бродила по периметру прямоугольной площади, что этот вскрикивающий тревожно, заходящийся, рыдающий над Городом голос и есть зов и клич Великого Гроссмейстера [Шварц 2023, 340].
Мы обратим внимание на атрибуцию птичьего крика в данном фрагменте — «не то выпь, не то филин». Обычная деталь из области орнитологической соносферы, где в числе прочего актуализируется этимология происхождения названия птиц («выпь» от «выть», а «филин», изначально звавшийся «квилин» — от общеславянского глагола «кви-лити» то есть «плакать»), может быть осмыслена через контекстуальные аналоги, одним из которых является фрагмент из песни Владимира Высоцкого «Сказка о несчастных сказочных персонажах», а уже через эту песню можно подключить и фрагмент из чеховского «Вишневого сада» (оговорим только, что взаимодействие этих двух текстов с текстом Елены Шварц носит, возможно, и контактный характер, но скорее всего речь идет о типологическом сходстве, не обусловленном прямым воздействием). В песне Высоцкого видим тождественную шварцевской пару птиц, через которых, как и у Елены Шварц, атрибутируется один и тот же звук:
То ли выпь захохотала, То ли филин заикал, — На душе тоскливо стало У Ивана-дурака [Высоцкий 1991, 190].
В пьесе Чехова почти такая же пара, как у Елены Шварц и у Высоцкого, включена в реакцию двух персонажей на знаменитый звук лопнувшей струны во втором действии:
Гаев. А может быть, птица какая-нибудь... вроде цапли. Трофимов. Или филин... [Чехов 1975, 224].
Оговорив, что выпь — птица семейства цаплевых, заметим следующее: и у Чехова, и у Высоцкого атрибуции звука через птиц оказались объединены мотивом несчастья. Напомним в этой связи финал эпизода с лопнувшей струной из второго действия «Вишневого сада»:
Любовь Андреевна (вздрагивает) . Неприятно почему-то.
Пауза.
Фирс. Перед несчастьем тоже было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь.
Гаев. Перед каким несчастьем?
Фире. Перед волей.
Пауза [Чехов 1975, 224].
И у Выеоцкого результат в плане реакции переонажа на уелышан-ное еходный: «На душе тоекливо етало // У Ивана-дурака»; не забудем и про развертывания названия пеени Выеоцкого в текет — вее еказочные переонажи, учаетвующие в еюжете, декларативно неечаетны. В итоге еформированный текетами Чехова и Выеоцкого контекет епоеобетвует емыеловому взаимообогащению каждого из этих текетов: текет Выеоцкого драматизируетея, текет Чехова приближаетея к авторекому жанровому определению, данному в подзаголовке «Вишневого еада»; при этом и пееня, и пьееа, еохраняют иеходные, «внеконтекетуальные» емыелы (подробнее ем.: [Доманекий 2024]).
Что же дает данный контекет из текетов Выеоцкого и Чехова для оемыеления еодержащего указания на атрибуцию птичьего крика «не то выпь, не то филин» фрагмента из прозаичеекой «Площади Мальтий-еких рыцарей» Елены Шварц? Как предетавляетея, контекет еиетемы из чеховекого «Вишневого еада» и «Сказки^» Выеоцкого епоеобетвует уеилению в шварцевеком текете общего наетроения тоеки и экепли-кации мотива неечаетья; но не етолько в плане предвеетья, еколько в плане проекции в прошлое: птичий крик не пророчит грядущие беды, а актуализирует беды, уже некогда елучившиеея, но откликающиеея в наетоящем моменте, напоминает о трагичееких еобытиях из иетории ры-царекого ордена.
В итоге можно еказать, что через атрибуцию птичьих криков вее три текета екладываютея в контекет, взаимно обогащая друг друга в емыело-вом плане. Так, к текетам Чехова и Выеоцкого «Площадь Мальтийеких рыцарей» Елены Шварц добавляет универеально-иеторичеекие емыелы, евязанные е иеторией (во многом легендарной) Мальтийекого ордена, иеторией драматичной и даже трагичной. На оеновании этого можно говорить об уеилении трагизма в еоответетвующих эпизодах «Вишневого еада» и «Сказки о неечаетных еказочных переонажах». Однако в названном контекете трагизм уеиливаетея и в текете Елены Шварц, обретая при этом более личноетное звучание; общим же знаменателем для веего контекета из трех текетов етановитея то, что можно назвать лич-ноетной эехатологией, при которой реальноеть воепринимаетея и пони-маетея как череда катаетрофичееких откровений; и автофикциональная героиня Елены Шварц в данном плане, в плане ощущения конца евета в отдельно взятом человеке для него еамого, еближаетея е переонажами и Чехова, и Выеоцкого. Тут етоит обратить внимание на то, что даже в прозе Елена Шварц оетаетея лириком: прежде веего, в текете оказывает-ея важна эмоция, внешние еобытия оказываютея интереены не етолько еами по еебе, еколько в той етепени, в какой они епоеобны воплотить переживание еубъекта, что и являетея еобетвенно лиричееким еобытием; экепликация же эмоции как еобытия переживания проиеходит (конечно, в чиеле прочего) через атрибуцию птичьего крика, что оеобенно заметно е учетом названных текетов Чехова и Выеоцкого, которые таким образом уеиливают не только общую личноетную эехатологию, а и лириче-екую еоетавляющую художеетвенного мира и в текете Шварц, и во веем еформированном контекете.
В завершении разговора о птичьем крике в тексте «Площадь мальтийский рыцарей» заметим, что выпь (правда, уже без филина) находит себя в стихотворении Елены Шварц о том же самом месте, про которое рассказывается в названном выше прозаическом тексте; это стихотворение «Площадь Мальтийских рыцарей в Риме» из цикла «Римская тетрадь», вот его финал:
А под обрывом в кипарисах Выпь плачет громко, безутешно. Как будто бы Магистр Великий В подбитом горностаем платье Все ропщет в этих стонах долгих О несмываемом проклятье [Шварц 2004, 52].
И пусть в прозаическом тексте крик птицы в сознании субъекта кажется зовом и кличем Великого Гроссмейстера, а в стихотворении плач выпи только сравнивается с роптаньем Магистра Великого, в обоих текстах событие из жизни героини, точнее — событие, переживаемое героиней, еще точнее — событие переживания героини, показано одно и то же — случившееся в одно и то же время в одном и том же месте. Тем сильнее бросается в глаза принципиальное отличие птичьей соносферы в лирическом стихотворении Шварц от птичьей соносферы в ее лирическом прозаическом тексте: в стихотворении источник звука указан точно — «выпь плачет горько, безутешно», тогда как в прозаическом травелоге упор сделан на вариативность (как это было и у Чехова, и Высоцкого) — «по ночам начинает кричать птица, не то выпь, не то филин»; такая разница может указывать на то, что лирическая поэзия в художественном мире Елены Шварц предпочитает более строгую конкретику, нежели лирическая проза, которая в свою очередь оказывается не столь однозначной, в ней субъект выступает более, если можно так выразиться, сомневающимся, не так сильно уверенным, как в лирической поэзии. Вполне вероятно, что отмеченное отличие — конкретика соносферы в лирической поэзии и вариативность соносферы в лирической прозе — может являться характерной особенностью творчества Елены Шварц, однако для подтверждения или опровержения этого требуется рассмотрение не одного, а целого ряда примеров.
И уже совсем под конец размышлений о первом заинтересовавшем нас сегменте из шварцевского прозаического наследия обратим внимание на то, что у Елены Шварц есть еще один текст, где упомянуто кладбище мальтийский рыцарей; это стихотворение «На прогулке» 1981 г. И в этом стихотворении, как и в названных выше текстах, тоже есть птица — большая чайка. Однако оставим этот текст и эту птицу для будущих исследований, а перейдем к другому фрагменту из лирической прозы Елены Шварц.
Второй момент, притягивающий к себе «чужие» тексты, находим в самом начале текста «Сербский монастырь»: «Во дворе древнего сербского монастыря недалеко от албанской границы поздние увядающие розы остро пахли астрами. За ними ухаживали пять немолодых монахинь. Кроме розовых кустов двор украшала квадратная колокольня» [Шварц 2023, 343].
И если момент предыдущий относился к области звуков, то этот момент уже из области запахов: «...поздние увядающие розы остро пахли астрами»; как видим, запах здесь не соответствует его источнику, цветы обладают, как им и положено, запахом, это запах цветочный, а не какой-то посторонний, но это запах других цветов. Учитывая же то, о каких именно цветах говорится, можно увидеть здесь нарочитое противоречие относительно того, что как непреложную истину констатирует шекспировская Джульетта: «Роза пахнет розой, // Хоть розой назови ее, хоть нет» [Шекспир 2018, 54]. В тексте Елены Шварц, как видим, розы названы розами, но вот пахли они не розами, а астрами. Такое разрушение привычного, ожидаемого обусловлено и объяснено тем, что розы эти — поздние, увядающие; но в неменьшей степени — и расположением монастыря: монастырь «древний сербский», однако находится он «недалеко от албанской границы», что с полным правом можно считать если и не аномалией в чистом виде, то чем-то пограничным не только в географическом, а в общекультурном смысле. Обратим внимание и на характеристику запаха — «остро»; здесь, помимо чисто лексического усиления аномального запаха, формирующего обонятельный оксюморон, обращает на себя внимание фонетическое устройство шварцевской фразы — «розы оСТРо пахли аСТРами»: на уровне звучания тут создается особый уровень жесткости, даже резкости, а это в совокупности с лексическим значением слова «остро», с тем, что роза пахнет не розой, с тем, что сербский монастырь недалеко от албанской границы, формирует общее представление о суровой и даже в какой-то степени эсхатологической аномалии.
И это представление усиливается, даже словно обнажается через подключение к тексту Елены Шварц в качестве смыслового контекста фрагмента из романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества»: «.в эти дни в природе наблюдались какие-то непонятные явления: розы пахли полынью, зерна фасоли, высыпавшись из тыквенной плошки, которую уронила Санта София де ла Пьедад, сложились на полу в геометрически правильный рисунок морской звезды, а как-то раз ночью по небу пролетела вереница светящихся оранжевых дисков» [Гарсиа Маркес 2023, 445—446]. У Маркеса, как видим, розы тоже пахнут не розами, правда, не астрами, а другим растением — полынью, что неизбежно подключает вполне конкретный претекст — новозаветный («Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде “полынь”; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки» (Отк. 8: 10—11)), а через этот претекст и через систему с двумя другими аномалиями (зерна фасоли в виде морской звезды и вереница оранжевых дисков в небе) в маркесовском фрагменте формируется не просто патология, не просто отклонение от привычной нормы и устоявшегося хода вещей, а нарочитое указание на эсхатологичность происходящего, на предвосхищение и даже предчувствие конца мира. Близкие, хотя и отнюдь не тождественные, смыслы можно обнаружить в тексте песни Дианы Арбениной «Ты дарила мне розы» (альбом «Ночных снайперов» «Цунами» 2002 г.); в самом начале этой песни розы тоже пахнут не розами, а, как и у Маркеса, полынью:
Ты дарила мне розы
Розы пахли полынью
Знала все мои песни
Шевелила губами
Исчезала мгновенно
Не сидела в засаде
Никогда не дышала Тихонько в трубу
Тут эсхатология носит характер личностный (что не так явно в мар-кесовском тексте), характеризует отношения между адресатом и субъектом, предвосхищая не всеобщий конец мира (хотя едва ли не любое художественное упоминание полыни провоцирует порождение универсальных эсхатологического смыслов), а личную драму, что в определенном ракурсе тоже вполне может пониматься как конец мира, только не мира вообще, а отдельно взятого мира конкретной личности. Таким образом, песня Дианы Арбениной, как и фрагмент из романа Маркеса, содержит эсхатологические смыслы, что связано во многом с конкретной атрибуцией запаха (розы в обоих случаях пахли полынью), а не только с тем, что розы пахнут не розами. У Елены Шварц розы пахли не полынью, а астрами, что, казалось бы, должно апокалипсические смыслы редуцировать, однако смыслы эти, как уже было сказано выше, все же присутствуют — и в том, что розы пахнут не розами, и в том, что запах острый, в и том, что розы поздние и увядающие, и в том, что сербский монастырь находится недалеко от албанской границы, да даже в том, что монахини — немолодые.
Настроение конца в некоторой степени эксплицируется и в атрибуции запаха роз; оставим в стороне то, что символизирует астра в разных культурах (значения там различны и многообразны), укажем только на, скажем так, бытовое, привычное значение этого цветка в повседневной жизни; это — осенний цветок, а потому мы можем говорить об астре, применяя к ней все привычные значения осени. Но для нас важно, что вся эта система обретает завершенную смысловую эсхатологичность тогда, когда мы подключаем к ней близкие по значению тексты Маркеса и Арбениной, в результате чего формируется контекст, в котором ведущей смысловой линией становится основанная на аномалии линия апокалипсическая. В этом контексте через текст Елены Шварц в смысловом плане обогащаются и тексты Маркеса и Арбениной; весь же данный контекст способен, как представляется, существенно редуцировать кажущиеся аксиомой приведенные выше слова Джульетты из трагедии Шекспира, а это, согласимся, обогатит в смысловом плане и шекспировский текст, актуализируя в нем патологические и даже личностно-эсхатологические смыслы.
Наконец, как и в случае с текстом «Площадь мальтийских рыцарей», к тексту «Сербский монастырь» существует в творчестве Елены Шварц, если можно так выразиться, стихотворная пара — это довольно объемное стихотворение «В монастыре близ албанской границы» 1991 г. Место действия тут то же самое, что и в прозаическом тексте; и как и в прозаическом тексте, в стихотворении тоже есть увядающие розы:
Здесь — православный монастырь, Где розы, нежась, увядая, Склоняются себе на грудь [Шварц 1999, 227].
Правда, речь не идет об их запахе, в стихотворении видим контексты иного плана к этим цветам — контексты мороза и песка:
И через сад иду в потемках Чудесной среди роз дорогой. Скользят монашки каждый день и час В пещеру ледяную Бога, Между камней развалин древних, Вдоль одинокой колокольни, Меж роз, белеющих чуть в алость. Такая чистота и жалость, О розы, раните вы больно!
В живом пронзающем морозе И я колени преклоняла, Молясь пречистой вышней Розе Об увядающих и малых
Господи, я ведь люблю Больше, чем я могу — Гору эту в снегу, Розу эту в песке, Кровь свою на бегу, Тебя в неизбывной тоске [Шварц 1999, 227—228].
В финале стихотворения мороз и песок сходятся в характеристике розы (выделим этот момент в цитате ниже):
Господи, я ведь люблю Сильнее, чем я хочу, Эту луну из-за гор, Чужих людей, заиндевевшую розу в песке , Пенье из старческих горл
На чужом, как в гареме сестра, языке, Сильную гору в снегу, Запах утренник звезд, Сильный и в близости роз И съедающий кожу мороз, И мусульман за стеной, И ангела здешних мест,
И Того, что везде со мной [Шварц 1999, 228].
Однако, как видим, именно здесь, в финале стихотворения, возникает запах; это, конечно, не запах роз, это запах утренних звезд, но как раз данная деталь (в числе прочего, разумеется) сближает стихотворение «В монастыре близ албанской границы» с прозаическим текстом «Сербский монастырь», где, напомним, «поздние увядающие розы остро пахли астрами»; как тут не отметить, что одно из названий звезды по латыни — astrum; astra же — некоторые падежные формы множественного числа к слову «звезда». На основании этого можно заключить, что запах утренних звезд у Елены Шварц странным образом соотносится с розами, которые пахли астрами. Стихотворный текст Елены Шварц иначе относительно ее прозаического текста трактует розу, но между тем оба текста крайне интересно взаимодействуют, порождая любопытный контекст, который, хочется надеяться, еще будет проанализирован в будущем с привлечением «чужого» контекста из Маркеса и Дианы Арбениной.
Обобщая же результаты анализа по двум рассмотренным моментам из прозы Елены Шварц, заметим следующее: соотнесение этих сегментов со схожими сегментами из других текстов (Чехова и Высоцкого, Маркеса и Арбениной) позволило сформировать контексты, в которых оказались актуализированы смыслы, связанные с трагизмом бытия, с трагическим положением человека в мире, с ощущением неизбежного конца — и мира, и человека. Думается, эти смыслы, характерные для лирической поэзии Елены Шварц, реализованные в ее прозе — тоже, безусловно, лирической, передают важные грани мироощущения автора. А самое для нас важное в рассмотренных примерах — это очередное подтверждение того, что смыслы, глубоко запрятанные в текст, могут актуализироваться при обоснованном подключении к ним других текстов, в результате чего формируются контексты, в которых тексты-участники взаимообогащаются в смысловом плане.
Список литературы Два момента из прозы Елены Шварц: к проблеме контекстуальных смыслов
- Воронцова К.В. Модели пространства в поэзии Елены Шварц: авто-реф. дис.... к. филол. н.: 10.01.01. Волгоград, 2013. 25 с.
- Воронцова К.В. Пространство русской литературы в поэзии Елены Шварц // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2012. № 6. С. 136-139.
- Высоцкий В. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1991. 639 с.
- Гарсиа Маркес Г. Сто лет одиночества / пер. с исп. В. С. Столбова, Н.Я. Бутыриной. М.: АСТ, 2023. 544 с.
- Джамалова М.К. Полимодальность поэтического текста Елены Шварц // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 1(127). URL: https:// research-journal.org/archive/1-127-2023-january/10.23670/IRJ.2023.127.154 (дата обращения: 25.07.2024).
- Доманский Ю.В. Отзвук лопнувшей струны из чеховского «Вишневого сада» в «Сказке о несчастных сказочных персонажах» Владимира Высоцкого // Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2024. Вып. 2. С. 5-12.
- Дубаков Л.В., Го В. Культурный образ лисы-оборотня в поэзии Елены Шварц // Мир русскоговорящих стран. 2022. № 3(13). С. 81-94.
- Зотеев А. В. Лирический герой Елены Шварц и его трансформации в переводах на английский язык: автореф. дис.... к. филол. н.: 10.01.03. Самара, 2011. 19 с.
- (a) Марков А.В. Закономерности христианской культуры в поздней поэзии Елены Шварц // Культурный код. 2020. № 3. С. 7-14.
- (b) Марков А.В. Синергетический фатализм и ситуативный хронотоп архитектурных образов Елены Шварц // Творчество и современность. 2020. № 2(13). URL: https://nsktvs.ru/node/266 (дата обращения: 25.07.2024).
- Пронин М.В. О некоторых особенностях поэтического языка Елены Шварц // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2024. № 3. С. 129-136.
- (а) Романов А.А. Временной код в лирике Елены Шварц // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2020. Т. 20. Вып. 3. С. 332-337.
- 13.(b) Романов А.А. Оппозиции пространственного кода в лирике Елены Шварц // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2020. Т. 20. Вып. 2. С. 218-222.
- Романов А.А. Культурные коды в лирике Елены Шварц: автореф. дис.... к. филол. н.: 10.01.01. Саратов, 2021. 24 с.
- Самойленко В.А. Жанровые особенности лирического цикла путешествий // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. Т. 13. Вып. 9. С. 43-48.
- Суханова С.Ю. Интерпретация орфического сюжета в творчестве Елены Шварц // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2019. № 35. С. 134-145.
- Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Т. 13. М.: Наука, 1975. 528 с.
- Шварц Е. Истинные происшествия моей жизни. СПб.: Jaromir Hladik press, 2023. 392 с.
- Шварц Е. Стихотворения и поэмы. СПб.: ИНАПРЕСС, 1999. 512 с.
- Шварц Е. Трость скорописца: Книга новых стихотворений. СПб.: Пушкинский фонд, 2004. 104 с.
- Шекспир У. Ромео и Джульетта [трагедии] / [пер. с англ. Б. Пастернака]. М.: АСТ, 2018. 384 с.