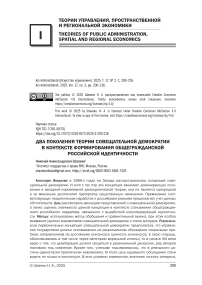Два поколения теории совещательной демократии в контексте формирования общегражданской российской идентичности
Автор: Николай Александрович Шавеко
Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi
Рубрика: Теории управления, пространственной и региональной экономики
Статья в выпуске: 2 т.17, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение: в 1990-х годах на Западе распространилась концепция совещательной демократии. И хотя с тех пор эта концепция занимает доминирующее положение в западной нормативной демократической теории, она не является однородной и за минувшие десятилетия претерпела существенные изменения. Применение соответствующих теоретических наработок к российским реалиям предполагает учет данных обстоятельств. Цель: рассмотреть эволюцию представлений о совещательной демократии, а также оценить значимость данной концепции в контексте становления общегражданского российского нарратива, связанного с выработкой консолидирующей идентичности. Методы: использованы метод обобщения и сравнительный анализ, при этом особое внимание уделено взаимосвязи совещательной демократии и этики дискурса. Результаты: если первоначально концепция совещательной демократии предполагала, что управление государством должно основываться на рациональном обсуждении социальных проблем, направленном на достижение консенсуса (ценность консенсуса, в свою очередь, обосновывалась в том числе через категорию моральной истины), то в начале XXI века идею о том, что делиберация должна сводиться к рациональной дискуссии, ряд авторов поставили под сомнение. Кроме того, учеными подчеркивалось, что в реальности достичь единогласия практически невозможно. В итоге цель идеального обсуждения стали видеть не только в консенсусе. В этих условиях изменилось значение личного интереса, добросовестности и искренности в публичных дискуссиях. Выводы: автором констатируется, что сегодня принято различать два поколения совещательных демократов: первое отстаивает необходимость обсуждений, максимально приближенных к хабермасовскому рациональному дискурсу и направленных на поиск взаимного согласия, тогда как второе отошло от идеалов рациональности и консенсуса. Утверждается, что новое поколение соответствующей концепции позволяет обосновать применение делиберативных практик при выработке общенациональной идентичности в целом и консолидирующих нацию духовно-нравственных ценностей в частности.
Совещательная демократия, дискурс, коммуникация, этика дискурса, делиберация, национальная идентичность, традиционные ценности
Короткий адрес: https://sciup.org/147250690
IDR: 147250690 | УДК: 321.7:316.4(470) | DOI: 10.17072/2218-9173-2025-2-200-216
Текст научной статьи Два поколения теории совещательной демократии в контексте формирования общегражданской российской идентичности
Эта работа © 2025 Шавеко Н. А. распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите
This work © 2025 by Shaveko, N. A. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International. To view a copy of this license, visit
В 1990-е годы на Западе получила широкое распространение концепция совещательной (делиберативной) демократии, и с тех пор она занимает доминирующее положение в западной нормативной демократической теории. Под этой концепцией изначально понималось такое ви́дение демократии, согласно которому управление государством должно основываться на открытом, рациональном и свободном обсуждении (делиберации) социальных проблем, когда каждый имеет равное право высказать аргументы или возражения относительно того или иного способа решения этих проблем. Между тем уже в начале XXI века во взглядах на совещательную демократию произошли существенные изменения, которые сегодня позволяют говорить о двух поколениях теории совещательной демократии. Тем не менее в отечественной литературе этой эволюции не уделяется достаточного внимания.
В настоящей статье мы рассмотрим различия этих двух поколений, а также представим собственную критическую оценку каждого из них. Важно отметить, что речь идет именно о поколениях теории, а не о человеческих поколениях: поколения теории выделяются не потому, что на смену прежним авторам пришли новые, более молодые, а потому, что первое относится к концу ХХ века, тогда как второе – к началу XXI, при этом один и тот же автор вполне может принадлежать к обоим поколениям, если со временем поменял свои взгляды. Кроме того, следует пояснить, что теория совещательной демократии достаточно быстро развивается, и существует множество подходов к ее эволюции (выделяют, в частности, эпистемический, эмпирический, системный и даже демократический «повороты» в ее развитии, а также до четырех ее «поколений» (Palumbo, 2024). Но то различие поколений, которое будет рассмотрено в настоящей статье, признается во всех подобных классификациях.
В сегодняшней России обращение к теории совещательной демократии представляется особенно значимым в связи с необходимостью актуализиро- вать общенациональную гражданскую идентичность и выявить те культурные скрепы, которые объединяют все народы и социальные группы внутри страны. В 2022 году Президент Российской Федерации издал указ, содержащий перечень традиционных российских духовно-нравственных ценностей1, а также поручил разработать курс «Основы российской государственности», в рамках которого с 2023 года студентам вузов всех направлений подготовки преподаются мировоззренческие принципы (константы) и ценности российской цивилизации2. Однако концепция совещательной (делиберативной) демократии напоминает, что подобные инициативы должны широко обсуждаться общественностью, в противном случае провозглашенные «сверху» ценности могут не закрепиться в общественном сознании. Действительно, пишут исследователи, сегодня «значительная часть россиян не ориентирована на традиционные ценности, поэтому их нормативное закрепление способно послужить не столько консолидации общества, сколько дальнейшей его поляризации» (Борщевский 2023, с. 85). Выходом из этой ситуации нам представляется обращение к современной демократической теории, поскольку именно демократический способ формирования общих ценностей и общего образа будущего будет содействовать задаче гражданской консолидации.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Прежде чем приступить к предмету статьи, необходимо сформулировать основные характеристики совещательной демократии. В соответствии с определением, данным Дж. Коэном, совещательная демократия представляет собой такой способ управления обществом, при котором основой легитимности выступает обсуждение; при этом граждане считаются способными к нему, а существующие институты содействуют обсуждению и функционируют в соответствии с его результатами (Cohen, 1989, p. 21). В свою очередь Э. Гутманн и Д. Томпсон определяют совещательную демократию как форму правления, при которой свободные и равные граждане или их представители обосновывают те или иные решения в процессе выдвижения взаимоприемлемых и общедоступных аргументов с целью формулирования выводов, обязательных в настоящем для всех граждан, но открытых для оспаривания в будущем (Gutmann and Thompson, 2004, p. 7). Наконец, по мнению Ю. Элстера, совещательная демократия характеризуется принятием решений теми, кого затрагивает это решение (или их представителями), посредством приведения аргументов рациональными и беспристрастными участниками (Elster, 1998, p. 8). Все приведенные определения весьма сходны и предполагают как данность, что граждане или их представители обладают необходимыми
Шавеко Н. А. Два поколения теории совещательной демократии в контексте формирования общегражданской российской... делиберативными компетенциями, являются рациональными и в целом (добровольно или ввиду тех или иных обстоятельств) беспристрастными. Одной из ключевых характеристик понимаемой таким образом совещательной демократии является акцент на консенсус. При этом ценность консенсуса обосновывалась различными мыслителями по-разному: одни видели в нем средство достижения истины (Nino, 1996, p. 107), другие – стабильности (Rawls, 1996, p. xviii–xx), третьи – средство избегания моральных конфликтов (Gutmann and Thompson, 1996, p. 1–2). Как представляется, все эти обоснования отчасти взаимно пересекаются.
Также следует предварительно отметить, что рассмотрение двух поколений теории совещательной демократии будет осуществлено нами в сопоставлении с этикой дискурса, разработанной Ю. Хабермасом и К.-О. Апелем. С этой целью кратко укажем, что этика дискурса суть этическая теория, исходящая из того, что морально истинными могут считаться лишь те нормы, которые получили всеобщее одобрение в практических дискурсах (Хабермас, 2008, c. 112). Под собственно дискурсом понимается вид коммуникативного действия, осуществляемый при отсутствии единогласия и направленный на доказывание/изменение своей точки зрения для достижения этого единогласия; дискурс – это «идеальная речевая ситуация», когда владеющие языком, вменяемые и дееспособные люди, круг которых не ограничен, руководствуясь законами логики и мотивом поиска справедливости, пытаются привести друг другу аргументы, которые они считают убедительными для своих оппонентов, чтобы склонить последних к принятию своей позиции относительно тех или иных ценностей; при этом каждый вправе задавать тематику коммуникации, имеет равные с другими шансы на коммуникацию, свободу самовыражения и не принуждаем ничем, кроме силы аргументов (отсутствует обман, насилие и тому подобные факторы). Как будет показано ниже, проблемы, с которыми сталкиваются совещательные демократы, очень похожи на проблемы, которые существуют в рамках этики дискурса. Различие состоит лишь в том, что в этике дискурса речь идет о дискурсе как об «идеальной речевой ситуации», а в рамках совещательной демократии используется понятие делиберации, зачастую отождествляемое с понятием дискурса. Кроме того, если в этике дискурса целью обсуждения является поиск моральной истины, то в рамках моделей совещательной демократии называется целый спектр возможных целей делиберации. Тем не менее многие совещательные демократы, безусловно, находились под влиянием этики дискурса и именно из нее заимствовали саму идею рационального дискурса, направленного на достижение консенсуса.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Характер и правила делиберации
Рассмотрение двух поколений концепции совещательной демократии представляется необходимым начать с дискуссии о том, каковы правила дели-берации (публичного дискурса).
Надо сказать, что единства по данному вопросу не наблюдалось уже у разработчиков этики дискурса. Например, К.-О. Апелем этический дискурс характеризовался свободой от принуждения, абсолютным равноправием, а также открытостью (публичностью) (Ситникова, 2008, c. 44), тогда как Ю. Хабермас дополнительно акцентировал внимание на искренности участников (Habermas, 1992, p. 132). Однако в том и другом случае речь шла о рациональном дискурсе, направленном на достижение консенсуса. Между тем именно этот аспект стал оспариваться со временем в рамках дискуссий о совещательной демократии. Еще одно различие состояло в том, что Хабермас считал правила дискурса изменчивыми и обусловленными конкретной исторической ситуацией, тогда как Апель – трансцендентальными (Хабермас, 2006, с. 148–154).
Сходные дискуссии наблюдались изначально и среди совещательных демократов. Так, применительно к проблеме изменчивости правил делибе-рации обсуждалась следующая дилемма. Одни мыслители исходили из того, что делиберация должна касаться в том числе и самих правил делибера-ции и способов их применения (Benhabib, 1996, p. 70; Manin, 1987, p. 352). Но, как было отмечено другими философами, в этом случае возникает так называемый «парадокс толерантности», поскольку делиберацией допускаются действия, которые способны подорвать ее саму. Если же мы, с другой стороны, налагаем запрет на изменение правил делиберации, то рискуем быть обвиненными в том, что ключевую роль приписываем уже не консенсусу, а правилам, которые вообще не обсуждаются (Gould, 1996, p. 178). Отдельными демократическими теоретиками были предприняты слабые попытки найти компромисс между этими крайними позициями. В частности, Э. Гутманн и Д. Томпсон, предлагая собственные принципы делиберативной демократии, подчеркивали их относительный и изменчивый характер. По их мнению, один или несколько принципов совещательной демократии могут быть пересмотрены с учетом других ее принципов, но при этом не могут быть пересмотрены все сразу (Gutmann and Thompson, 2004, p. 57; Gutmann and Thompson, 1996, p. 349–353). Причину такого догматизма указанных авторов сложно уловить. Получается, что все правила делиберации могут быть отвергнуты, но только по очереди. Но чем эта позиция лучше той, когда все правила отвергаются сразу? Она также не помогает преодолеть «парадокс толерантности», а значит, ее теоретическая значимость сомнительна. В конечном счете, как представляется, нет особых препятствий для того, чтобы во избежание «парадокса толерантности» отстаивать некие неизменные правила политической делибе-рации. При этом ответ на вопрос, какими именно будут эти правила, зависит от цели, которая преследуется посредством делиберации (ведь эту цель различные мыслители видели по-разному). В рамках демократической теории описанная проблема носит инструментальный, а не фундаментальный характер.
Одновременно дискуссии среди совещательных демократов разворачивались и вокруг собственно «перечня» правил делиберации. Так, для Дж. Фиш-кина помимо равноправия участников важны такие характеристики делибе-рации, как добросовестность этих участников при оценке аргументов друг друга, доступ участников делиберации к необходимой информации и такое разнообразие представленных точек зрения, которое делает участников делиберации репрезентативной выборкой всех членов общества (Fishkin, 2009, p. 34). Всего у Дж. Фишкина сформулировано пять главных требований к делиберации: информированность, сущностный баланс, разнообразие (репрезентация основных позиций, существующих в обществе), добросовестность и равное рассмотрение любых аргументов (Fishkin, 2009, p. 33–34). В свою очередь Дж. Коэн выделяет следующие четыре характеристики идеальной делиберации: 1) делиберация свободна, ее участники связаны лишь результатами и необходимыми условиями самой делиберации; 2) участники делиберации обязаны привести аргументы в поддержку своих предложений, и эти предложения оцениваются на основе приведенных аргументов; 3) участники делиберации равны как формально, так и сущностно (имеют равное право выдвигать предложения, аргументировать и критиковать, а также не ограничены тем или иным распределением власти и ресурсов); 4) целью делиберации является достижение рационального консенсуса (при недостижении консенсуса используется правило большинства) (Cohen, 1989, p. 22–23). В более поздних работах данный автор также стал подчеркивать критерий добросовестности делиберативных усилий (Cohen, 1998, p. 185). Э. Гутманн и Д. Томпсон предъявляют требования уже непосредственно к аргументации, такие как взаимоприемлемость, общедоступность, обязывающий характер и возможность пересмотра (Gutmann and Thompson, 2004, p. 3–7). Если взаимоприемлемость и возможность пересмотра – это характеристики, которые свойственны и этике дискурса, то обязывающий (правовой) характер результатов обсуждения есть прямое следствие того, что теория совещательной демократии, в отличие от оперирующей «идеальной речевой ситуацией» этики дискурса, касается реальной политической практики; одновременно общедоступность аргументации (то есть не только публичность, но и понятность для соответствующей аудитории) – это ограничение, связанное с учетом неидеальности реальных политических дискуссий. Кроме того, сторонники совещательной демократии нередко указывают на существующие на практике различия в способности аргументации и на необходимость обеспечения равенства указанных возможностей, как и в целом любых возможностей, связанных с участием в дискурсе (Dryzek, 2000, p. 172–173).
Таким образом, как и в рамках этики дискурса, среди совещательных демократов изначально наблюдались дискуссии относительно того, какие именно правила определяют дискурс, однако эти дискуссии развивались уже в контексте реальных политических практик (отсюда такие требования к дискурсу, как репрезентативность, информированность, добросовестность участников, понятность аргументации и т. п.). Интересно при этом, что нереализуемость на практике «идеальной речевой ситуации» приводит противников делибе-ративной демократии к предположению, что поиску и нахождению истины на практике способствует не столько «убаюкивающее» обсуждение, сколько конкурентный спор (Шапиро, 2004, c. 263–271).
В целом можно констатировать, что классическое представление о дели-берации предполагало стремление к консенсусу (определяемому как средство достижения моральной и иной истины, обеспечения легитимности, преодоления моральных разногласий) путем взаимного приведения рациональных аргументов и тем самым исключало любые апелляции к личному интересу и попытки отстоять его, прибегая к торгу и иным стратегическим действиям. При этом далеко не всегда делиберация рассматривалась как средство достижения моральной истины или как имеющая иное эпистемологическое значение (например, как средство рефлексии над собственными предпочтениями). И. Шапиро верно заметил, что на практике консенсус не тождествен истине: «Люди могут согласиться, что земля плоская, что иностранцы варвары, что черные хуже белых» (Шапиро, 2004, c. 268).
Рациональность и консенсус как объекты критики
Однако если делиберация служит не эпистемологическим, а иным целям, неизбежно должен был возникнуть вопрос о том, почему она должна связываться именно с рациональной дискуссией. Многие мыслители, выступающие в поддержку конкурирующей с совещательной демократией концепции агонистического плюрализма, стали утверждать, что постулирование правил политического дискурса по сути означает навязывание стандартов рациональности, ведущее к исключению некоторых заинтересованных лиц из политического участия (Mouffe, 1999, p. 749–752), поэтому хабермасовские идеи о полном политическом «включении» всех заинтересованных лиц в реальности якобы приводят к «исключению» посредством гегемонии рациональности. Соответственно, был открыт доступ к некогнитивным формам аргументации, направленным на поиск сопереживания, если это способствует взаимному согласию. Представляется, что особое значение это имеет для обсуждения вопроса ценностей и идентичности, поскольку они не всегда поддаются рациональному анализу и аргументации.
Кроме того, западные ученые все больше стали делать акцент на практической невозможности достижения единогласия в реальных условиях, особенно в масштабах целой страны, и потому составной частью идеального обсуждения предпочитали видеть иные, помимо консенсуса, цели: прояснение и структурирование разногласий, компромисс, агрегацию предпочтений и т. п. Так, ряд авторов выделяет как часть делиберативного идеала «ненасильственные переговоры» (торг) и основанные на делиберативном контроле принудительные акты (например, обеспечивающие сам процесс делиберации или же реализацию решений, принятых в рамках этого процесса) (Mansbridge et al., 2010, p. 64, 66, 69–72). В результате в научной литературе предлагается различать теорию демократии как консенсуса и теорию демократии как дели-берации (дискурса) (Тушков, 2012, с. 165). Правда, консенсус все еще остается для совещательных демократов высшей (идеальной) целью, тогда как остальные цели либо дополняют эту цель, либо заменяют ее в случае, если консенсус оказывается недостижимым.
В сложившихся условиях новое значение приобретает личный интерес: он теперь играет не только роль информации, учитываемой при поиске общего блага (справедливости), но и роль заявки на сопереживание, способствующее «взаимному согласию», а также фактора, учитываемого при агрегации несо-гласуемых интересов (Mansbridge et al., 2010, p. 72–80). Меняется значение добросовестности и искренности в публичных дискуссиях: добросовестность
Шавеко Н. А. Два поколения теории совещательной демократии в контексте формирования общегражданской российской... как ориентация на общее благо сменяется ориентацией на личный интерес (лишь бы в конечном счете было достигнуто общее согласие, а если его нельзя достичь – были бы достигнуты иные желаемые цели, такие как прояснение разногласий или компромисс), а неискренность, в свою очередь, начинает цениться постольку, поскольку иногда (в форме приветствий, комплиментов, пожеланий и т. п.) может способствовать социальной сплоченности (Bachtiger et al., 2018, p. 4).
Таким образом, сегодня принято различать два лагеря совещательных демократов: первые отстаивают необходимость обсуждений, максимально приближенных к хабермасовскому рациональному дискурсу и направленных на поиск взаимного согласия, тогда как вторые отошли от идеалов рациональности и консенсуса. Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, консенсус рассматривается не только как средство достижения моральной истины, но и как средство для других целей. Во-вторых, некоторые достойные цели, как считается, могут быть достигнуты по результатам обсуждения, даже если участники обсуждения не пришли к консенсусу. Указанные отличия обусловили и новый поворот в обсуждении правил публичного дискурса, в которых значимое место стали занимать некогнитивные формы аргументации, личный интерес и неискренность. Отметим, что в контексте публичных обсуждений основ общенациональной идентичности указанные отличия имеют особое значение, поскольку ценностные и мировоззренческие основы порой связаны с глубинными чувствами и эмоциями людей и не поддаются рациональной аргументации (тем более если, следуя конструктивистам, рассматривать нацию как своего рода «миф»), а полный консенсус в масштабах многомиллионной страны очевидно недостижим.
Конечно, новое понимание делиберативной демократии приняли далеко не все ученые. Тем не менее можно констатировать, что проблема определения правил дискурса существует как на теоретическом, так и на практическом уровне, и на каждом из этих уровней имеет свою специфику. В последнем случае эта проблема выражена в поиске критериев надлежащего политического делиберативного процесса, посредством которого принимаются общие решения. Иными словами, ставится вопрос не только об идеальных характеристиках дискурса (как в этике дискурса), но и о практических условиях, при которых достигаются желаемые результаты дискурса (Tompson, 2008). При этом важно подчеркнуть, что на практическом уровне обсуждение данной проблемы часто осложняется тем, что делиберация далеко не всеми авторами понимается в эпистемологическом ключе. В конечном счете это привело к тому, что многие ученые перестали рассматривать делиберацию как сугубо рациональный процесс, имеющий целью достижение консенсуса. Соответственно, при том понимании дискурса, которое получило распространение в рамках демократической теории, были отвергнуты основные постулаты этики дискурса, что привело к расколу среди сторонников совещательной демократии.
I. ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ, ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ деляемых другими участниками дискурса идеологиях, а также аргументы, посягающие на ядро личности каждого из участников дискуссии (Rawls, 1996, p. 212–254). В свою очередь Э. Гутманн и Д. Томпсон исключают аргументы, нарушающие принцип равноправия и личной неприкосновенности, а также не согласующиеся с принципами взаимности, публичности и подотчетности (Gutmann and Thompson, 1996, p. 8, 52). В то же время Дж. Драйзек, демонстрируя недостатки указанных точек зрения, полагает, что дискурс сам по себе способствует выработке некоторых ограничений в аргументации, а потому нет смысла вводить какие-либо предварительные ограничения. Более того, в отличие, например, от Ю. Хабермаса, представляющего себе дискурс лишь как обмен рациональными аргументами, Драйзек допускает риторику, повествование, юмор и другие подобные способы убеждения, хотя рациональный аргумент все же остается для него центральным способом убеждения (Dryzek, 2000, p. 167–168). По нашему мнению, Драйзек прав в том, что любые попытки заранее исключить из дискурса некоторые виды аргументов и высказываний, не связанные с насилием или с препятствующей участию в дискурсе дискриминацией, весьма сомнительны, поскольку мы не можем знать заранее убедительность каждого из них. Но хотя в идеале дискурс действительно имеет эндогенные ресурсы, нивелирующие те или иные способы убеждения, в далекой от идеала реальности строгие ограничения, по всей видимости, остаются актуальными, что и делает обоснованной защищающую широкий спектр прав человека конституционную демократию, несправедливо критикуемую Драйзеком, считающим достаточным постулирование лишь тех прав человека, которые являются предпосылками самого демократического процесса. В конечном счете допустимость тех или иных аргументов зависит, по нашему мнению, от того, как мы понимаем цель делиберации, и от эмпирических данных, подтверждающих эффективность тех или иных форм делиберации для достижения указанной цели. Это означает, например, что обсуждение общегражданской идентичности должно строиться по правилам, отличающимся от правил, по которым ведется обсуждение практических вопросов типа городского благоустройства или организации системы здравоохранения.
Не исключены также и другие разногласия относительно правил делибе-рации, связанные, в частности, с условностью понятия «насилие». Этой условности, как представляется, несправедливо не уделено внимания в существующей научной литературе об этике дискурса и делиберативной демократии. В какой момент, например, попытки убеждения перерастают в психологическое насилие? Ответ на этот вопрос далеко не очевиден. Однако этот вопрос актуализируется в современных условиях информационных войн, которые дают политикам повод для введения государственной защиты общенациональных скреп.
ОБСУЖДЕНИЕ
Принимая во внимание вышеизложенное, заметим, что отсутствие согласия относительно правил дискурса делает невозможным согласие по всем другим политическим вопросам. Некоторые авторы полагают, что никакой 209
проблемы в этом нет. Так, Ш. Муфф с опорой на постмодернистских авторов показывает, что согласие относительно правил дискурса возможно только благодаря «общим формам жизни» (включая правила языка), которые предшествуют дискурсу и делают дискурс авторитарным (Mouffe, 1999, p. 749– 752). При таких обстоятельствах полное, добровольное и информированное единодушие по вопросам справедливости Ш. Муфф полагает невозможным, а стремление к нему – нежелательным (Mouffe, 1996, p. 253–255). С учетом этого определенная форма демократии (плюрализм дискурсов и их соперничество) подспудно выдвигается данным автором на роль высшей ценности. Никакого общего согласия относительно правил дискурса с этой точки зрения больше и не требуется, поскольку не требуется согласия и по другим вопросам (возможность несогласия, в свою очередь, мыслится как выражение блага свободы). Между тем связанные со столкновением различных «форм жизни» конфликты в рамках плюрализма дискурсов остаются нерешенными. В конечном счете остается неясным, как достичь консенсуса относительно желательности плюрализма дискурсов в ситуации, когда даже нет общего для всех дискурса. Пытаясь преодолеть постмодернистское воззрение на дискурс как на форму принуждения, Дж. Драйзек обращает внимание на способность людей выбирать между различными дискурсами и на этом основании предлагает оригинальную концепцию «противостояния дискурсов», в соответствии с которой необходимо создать множество конкурирующих или кооперирующихся дискурсов (Dryzek, 2000, p. 57–80). Сказанное, впрочем, может рассматриваться лишь как недалеко ушедшая от постмодернизма практическая рекомендация. В итоге возникает вопрос: насколько плюрализм дискурсов приближает к целям, достижению которых, как предполагалось, должен был способствовать общий для всех дискурс (поиск моральной истины, легитимация власти и т. п.)? Короче говоря, согласие относительно правил дискурса имеет ключевое значение, несмотря на попытки некоторых теоретиков доказать обратное.
Хотелось бы обратить внимание и на то, что отказ от цели достижения консенсуса порождает как теоретический, так и практический вопрос о том, при каких именно обстоятельствах консенсус перестает быть оправданной целью, и этот вопрос в новейшей литературе тоже оказывается неразрешенным. Конечно, потребность разрешить его чувствуется еще у первого поколения совещательных демократов, однако их теоретических наработок, с нашей точки зрения, явно недостаточно. Можно привести в пример предложение Дж. Драйзека различать консенсус и аргументированное согласие. По мнению австралийского ученого, консенсус представляет собой единогласие и относительно правильности курса действий, и относительно аргументов, доказывающих его правильность, в то время как вполне достаточно только первого (Dryzek, 2000, p. 170). Однако Драйзек не учитывает, что, во-первых, порой не так просто разграничить эти два аспекта; во-вторых, единогласие даже в отношении первого аспекта тоже зачастую труднодостижимо. Понимая потенциальные сложности, Драйзек признает, что в реальности невозможно обойтись без стратегических действий («торга»). Соответственно, остается вопрос о том, когда переход к такого рода стратегическим действиям будет считаться оправданным. В свою очередь Э. Гутманн и Д. Томпсон вводят на случай недостижения взаимного согласия дополнительные «принципы приспосабливания», а именно принцип гражданской целостности (фактически это принцип честности, требующий непротиворечивости отстаиваемых взглядов, соответствия взглядов и действий, а также принятия всех их возможных последствий) и принцип гражданского великодушия (требующий признавать в позициях других людей моральное содержание, быть готовым к смене собственной позиции и стремиться к поиску согласия) (Gutmann and Thompson, 2004, p. 79–90; Gutmann and Thompson, 1996, p. 79–85). Но, в сущности, названные принципы представляют собой лишь основанные на взаимном уважении благоразумные советы, которые, возможно, помогают смягчить некоторые моральные разногласия на практике, но уж точно не решают насущные вопросы теории. Наконец, Ю. Хабермас, признавая, что в какой-то момент на практике дискурс следует прекратить, даже если полного согласия между сторонами достигнуто не было, не обосновывает никаких конкретных принципов такого прекращения. Это и понятно, ведь моральная оправданность конкретных институтов преобразования разрозненных взглядов в единую политическую волю также должна быть результатом соответствующих дискурсов и здесь не может быть каких-то заранее определенных постулатов. Хабермас ограничивается, в сущности, общим замечанием, что для разрешения противоречия между идеалом и действительностью правопорядку следует создавать условия для собственной легитимации и для фактического взаимного признания гражданами друг друга (Хабермас, 1995, c. 203). Иными словами, институты, прерывающие дискурс, сами должны быть предварительно обоснованы посредством другого дискурса. Но очевидно, что это не решает проблему, а лишь «отодвигает» ее на другой уровень, как бы скрывая от наших глаз. Более того, проблема здесь не столько в том, что в какой-то момент приходится прибегать к стратегическим действиям, сколько в том, что ставится под сомнение сам статус делиберации (дискурса) как центрального признака демократии. По всей видимости, остается согласиться с замечанием Ю. Элстера, согласно которому принцип «трансформации предпочтений» в ходе дискурса даже в теории (не говоря уже о практике) может быть лишь дополнением к некоторому принципу «агрегации предпочтений» (Эльстер, 2012, с. 73). Но если так, то возникают сомнения в оригинальности теории совещательной демократии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, набравшая в конце ХХ века популярность теория совещательной демократии в начале XXI века претерпела существенные изменения, что позволяет говорить сегодня о двух поколениях данной теории. Первое поколение довольно тесно связано с этикой дискурса, поскольку понимает делиберацию как обмен рациональными аргументами с целью достижения консенсуса. Второе поколение ставит под сомнение необходимость следования строгим правилам рациональности, а также далеко не всегда считает консенсус главной целью. В связи с этим свойственные еще первому поколению дискуссии о том,
Шавеко Н. А. Два поколения теории совещательной демократии в контексте формирования общегражданской российской... какими должны быть правила делиберации, приобретают новое содержание: оправданными теперь считаются самые разные приемы и формы беседы, в том числе неискренность и отсылки в ходе дискуссии к личному интересу.
Все это, однако, порождает свои собственные проблемы. В частности, размывается сама оригинальность теории совещательной демократии, поскольку делиберация, вероятно, перестает быть ключевой составляющей данной концепции, уступая место конкуренции, торгу и спору.
Тем не менее подобный поворот в демократической теории может расширить сферу применения делиберативных практик, поскольку теперь они уже не замыкаются на поиске истины. В современной России, например, актуальной является выработка консолидирующей национальной идентичности. Кроме того, благодаря новому поколению теории совещательной демократии становится понятно, что для различных целей правила делиберации также должны быть различными, в частности по вопросам духовно-нравственных ценностей обсуждение далеко не всегда должно и может основываться на классических стандартах рациональности. В то же время чрезмерное упование на конкуренцию, торг и спор вряд ли будет способствовать выработке общего ценностного ядра.