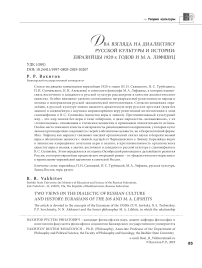Два взгляда на диалектику русской культуры и истории: евразийцы 1920-х годов и М. А. Лифшиц
Автор: Вахитов Рустем Ринатович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория культуры
Статья в выпуске: 2 (88), 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена концепциям евразийцев 1920-х годов (П. Н. Савицкого, Н. С. Трубецкого, П. П. Сувчинского, Н. Н. Алексеева) и советского философа М. А. Лифшица, в которых взаимосвязь восточного и западного в русской культуре рассмотрена в качестве диалектического единства. Особое внимание уделено соотношению патриархальной религиозности народа и атеизма и материализма русской западнической интеллигенции. Согласно концепции евразийцев, в русской культуре можно выделить архаическую веру русских крестьян (вера без знания) и соединённую с научным мировоззрением веру религиозной интеллигенции в лице славянофилов и В. С. Соловьёва (единство веры и знания). Противоположный культурный мир - это мир знания без веры в лице либералов, и даже марксистов-«меньшевиков», с их «теплохладным» отношением к этическим ценностям и признанием относительности истины. Особое место занимают атеисты и материалисты революционного направления, у которых культ знания противоречиво соединяется с верой в абсолютные ценности, но в безрелигиозной форме. Мих. Лифшиц как марксист связывает высший органический синтез науки и безрелигиозной веры в абсолютные ценности с линией, идущей от Чернышевского к Ленину. Евразийцы видят в ленинизме извращённое сочетание веры и знания, в противоположность органическому единству веры и знания, а значит, восточного и западного в русской культуре у славянофилов и В. С. Соловьёва. Этим определяется их оценка Октябрьской революции и дальнейшего развития России, в котором евразийцы предполагают очередной рывок - от «фидеистического марксизма» к православно-евразийской идеологии в советской Росси
Евразийцы, п. н. савицкий, н. с. трубецкой, м. а. лифшиц, русская культура, запад, восток, вера, разум
Короткий адрес: https://sciup.org/144160830
IDR: 144160830 | УДК: 1(091) | DOI: 10.24411/1997-0803-2019-10207
Текст научной статьи Два взгляда на диалектику русской культуры и истории: евразийцы 1920-х годов и М. А. Лифшиц
Наличие в русской культуре, наряду с элементами культур европейских народов, особенностей цивилизаций Востока отмечали многие. Сегодня, как сто и даже двести лет назад, это связывают с пониманием настоящего и будущего нашей страны. Но попыток показать, как именно соотносятся и взаимодействуют восточный и западный элементы нашей культуры и истории, было, увы, немного. Наиболее внушительны, по нашему мнению, лишь две. Первую предприняла группа эмигрантских учёных-гуманитариев, назвавших себя евразийцами (Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, Л. П. Карсавин, П. П. Сувчинский, Н. Н. Алексеев и другие). В 1920-х годах они выступили в печати русского зарубежья с сериями статей, сборников и книг, в которых рассматривали различные аспекты русской культуры, экономики, политики, истории.
Вторую, на наш взгляд, продуктивную попытку решения этой проблемы предпринял советский философ-марксист Михаил
Александрович Лифшиц (1905–1983). В 1943 году он выступил с циклом лекций о русской культуре, которые были опубликованы лишь после его смерти. В них он подробно рассмотрел диалектику азиатских и европейских элементов русской дореволюционной и послереволюционной культуры [2]. Однако различные идеи подобного рода разбросаны по всем его работам, начиная с самых ранних, написанных в конце 1920-х годов, и кончая последними, датируемыми началом 1980-х.
Следует отметить то, что и евразийцы, и Мих. Лифшиц были диалектиками. Все они указывали на диалектические взаимопревращения и синтез восточного и западного начал в развитии русской культуры, особенно в высшей точке русской истории, какой была Октябрьская революция 1917 года.
Восточный и западный элементы русской культуры имеют разные проявления и взаимопереходы. Возьмём для примера два.
С одной стороны, это религиозность как специфическая черта русского простонародья петербургского периода, что характерно для типичных «восточных», традиционных обществ. А с другой стороны, материалистические убеждения русской революционной интеллигенции – своего рода авангарда западничества в русском обществе XIX – начала ХХ века. Возможен ли между этими элементами русской жизни и культуры синтез и какого рода? Какой ответ на этот вопрос дают евразийцы, какой ответ даёт Мих. Лифшиц? И что в итоге для нас проясняется в судьбе России в ХХ веке?
Евразийцы о диалектике западного и восточного начал в русской культуре, интеллигенции и революции Евразийцы 1920–1930-х годов, вслед за славянофилами, указывали на то, что в результате реформ Петра I русские разделились на два слоя, между которыми образовался «трагический разрыв». Первый слой – подавляющее большинство, народ, который практически не был затронут реформами и сохранил формы старой московско-византийской культуры. Второй слой – образованное меньшинство, прежде всего – представители государства и интеллигенция, которые перенимали черты европейской культуры и цивилизации, но зачастую внешние и поверхностные.
Собственно, в этой констатации ничего оригинального нет. Но новаторство евразийцев было связано с тем, что исконная московско-византийская культура, согласно их убеждениям, по многим своим интенциям была близка культурам туранских народов Евразии, или, проще говоря, культурам народов Востока.
Таким образом, разрыв между европеизированной верхушкой и патриархальным простонародьем оказывался противостоянием европейской и азиатской культур. Евразийцы в своей декларации 1926 года с сочувствием приводят мнения иностранцев о русской исконной культуре: «… иностранцы (европейцы. – Р. В.) не смешивают русскую культуру ни с европейской, ни со славянством. Они воспринимают Москву, русский быт, русское искусство, русский психический уклад как “Азию”, хотя, конечно, отличают эту “Азию” от Индии или Китая. Для иранцев же русские – преемники Турана» [8, с. 38].
Одной из важных особенностей, сближающей русских с народами Востока, и прежде всего с туранцами, евразийцы считали религиозность: «Славянофилы правы, поскольку связывают проблему культуры с религией и русскую культуру – с судьбами Православия» [6, с. 38], и далее: «Евразийский (русский. – Р. В. ) традиционализм особенный … Ему ценна лишь живая и абсолютно значимая форма. А есть ли такие формы вне истинной религии? ... евразиец ... и ценит традицию, как родственный ему ту-ранец ... и остро ощущает её относительность …» [8, с. 42–43]. Иначе говоря, согласно евразийцам, для русских, пока европеизация не насадила среди них атеизм и материализм, всегда была свойственна тяга к абсолютному, выражающаяся в религиозности, причём такой, что она может поколебать традиционализм, общий для всех народов Востока.
Один из главных идеологов евразийства Петр Николаевич Савицкий различает культурные миры России петербургского периода именно по отношению к религии. Первый мир – это русский народ, оставшийся верным православию, и «истинно народная» линия в среде европеизированной интеллигенции, представленная славяно- филами, Н. В. Гоголем, Ф. М. Достоевским, Н. С. Лесковым, В. С. Соловьёвым. Вот он – синтез восточного и западного начал в той части религиозной интеллигенции, которая была далека от революции. Савицкий пишет о ней: «В русском XIX веке явственно различимы два обособленных преемства. Одно обнимает занимающуюся в 30–40 годах зарю русского религиозного творчества. Рождаясь из недр некоего древнего духа, с трудом преодолевая покровы окружающей среды, религиозное озарение вспыхивает в позднем Гоголе, славянофилах ... Брезжащий свет разгорается в творчестве Достоевского, Владимира Соловьёва и тех, кто был и есть с ними. Как наследие XIX века, Россия обретает достояние нравственно-совестной и богословской мысли, достояние, поистине составляющее в выборе и сопоставлении – канон книг русских учительных …» [8, с. 113–114].
Противостоящий первому второй культурный мир дореволюционной России – это мир интеллигентов-западников, просвещенческих деистов и материалистов, революционных демократов XIX века, а также следующих за ними марксистов. Это линия, представленная А. Н. Радищевым, Н. Г. Чернышевским, Д. И. Писаревым, М. И. Михайловским, В. И. Лениным: «… иное преемство, сказывающееся в судьбах русской культуры: преемство, начатое просветителями – обличителями XVIII и первой половины XIX века, идущее через Добролюбова, Писарева, Михайловского к просветителям-правителям большевистской эпохи; преемство позитивного мировоззрения, идолопоклонства “науке”, преемство не скепсиса только, а “нигилизма” в отношении к “вненаучным” началам человеческого бытия; преемство не улыбки авгуров, но громкого смеха кощунственных» [8, с. 114].
По мнению евразийцев, атеистически настроенные интеллигенты – воплощение западничества, и в этом качестве они закономерно двигаются в сторону революции. В самой русской европеизированной интеллигенции евразийцы обнаруживают два мира. В самой интеллигенции это противостояние «исконного», восточного, религиозного полюса русской дореволюционной культуры и заимствованного, западнического, связанного с атеизмом и материализмом. Савицкий подчёркивает полную противоположность этих миров: «Скажут, быть может: “два различных направления общественной мысли”; сказав, ошибутся: не два направления, но два разных исторических образования, два раздельных исторических мира!» [8, с. 114].
Вместе с тем П. Н. Савицкий как идеолог евразийства указывает на удивительное диалектическое превращение одного полюса в другой, причём в тот самый момент, когда один из них, да ещё и тот, который вызывает у Савицкого неприязнь и отторжение, казалось бы, окончательно победил. Речь идёт о победе социалистической революции в России, которая, на первый взгляд, вроде бы воплотила замыслы революционной части западнической интеллигенции. Тем не менее Савицкий пишет: «В качестве попытки сознательного осуществления коммунизма, этого отпрыска “европейских развитий”, русская революция есть вершина, кульминационный пункт … В то же время в судьбах русской революции обнаруживается величайшая contradiction historique1: построенная в умысле как завершение “европеизации” революция, как осуществление фактическое, означает выпадение России из рамок европейского бытия» [8, с. 116].
При этом о «выпадении России из европейского бытия» в результате большевистской революции Савицкий писал весьма показательно и ранее, в статье «Поворот к Востоку»: «Россия перед войной и революцией “была современным цивилизованным государством западного типа, правда, самым недисциплинированным и беспорядочным из всех существующих” (Г. Д. Уэльс). Но в процессе войны и революции “европейскость” России пала, как падает с лица маска. И когда мы увидали образ России, не прикрытый тканью исторических декораций, – мы увидали Россию двуликой … Одним лицом она обращена в Европу, как европейская страна … Но другим ликом она отвернулась от Европы … Уэльс рассказывает, что “Горького гнетёт, как кошмар, страх перед поворотом России к Востоку …”. “России к Востоку”. Но сама Россия не есть ли уже “Восток”?..» [8, с. 136].
Н. С. Трубецкой в «Наследии Чингисхана» указывает на то же самое: «Как это ни странно, но именно теперь, когда правительство России прилагает все усилия к тому, чтобы привить России мировоззрение, созданное типичными представителями европейского духа … несмотря на это, стихийное национальное своеобразие и неевропейское, полуазиатское лицо России-Евразии более чем когда-либо выступает наружу. Проступает наружу, “прёт из всех щелей”, несмотря на всю интернационалистическую и противонационалистическую декорацию … Россия подлинная, Россия историческая, древняя … настоящая русско-ту-ранская Россия-Евразия…» [9, с. 286].
Итак, согласно Савицкому и Трубецкому, революция, которую возглавили большевики, являет собой кульминацию развития западнической линии в русской культуре, которая начинается с Петра I и идёт через русских просветителей XVIII века, через революционных демократов Н. Г. Чернышевского и Д. И. Писарева к В. И. Ленину. Основатели евразийства оценивают эту линию резко отрицательно – как торжество самого грубого западнического материализма, который несовместим с исконной культурой русского народа. И вот, когда, казалось бы, материалистическое и нигилистическое западничество восторжествовало, всё оборачивается крахом «русской Европы», обнажением настоящего восточного лица России и возрождением былой подспудной народной традиции. Причём речь идёт не только о том, что гипертрофическое западничество уничтожило само себя, а о том, что именно оно превратилось в свою противоположность.
В манифесте «Евразийство (опыт систематического изложения)» всё это сказано более чётко: «Она (революция. – Р. В.) – глубокий и существенный процесс, который даёт последнее и последовательное выражение отрицательным тенденциям, исказившим великое дело Петра, но вместе с тем открывает дорогу и здоровой государственной стихии» [8, с. 52]. Выходит, что в революции есть и нечто такое, что замутнено западническими влияниями и не осознаётся самими большевиками. В чём же состоит это положительное значение большевистской революции? Евразийцы много писали о государствостроительстве большевиков, о демотии Советов, в которых они видели положительный смысл. Но у поставленного вопроса есть и духовно-религиозный аспект, о котором говорит другой основатель евразийства Петр Петрович Сувчин-ский. Вероятно, он в наибольшей степени среди евразийцев был наделён даром диалектика: «Большевики удивительно сумели придать жизненность своей мёртвой док- трине, поставить её под знаки извращённого религиозного фанатизма и героического лжеидеализма» [7, с. 222].
Согласно евразийцам, победа большевиков, наследников и представителей русских западников, материалистов, борцов с религией, церковью, верой, привела к ут- верждению государства, основанного на вере в идею. Коммунисты оказались большими идеалистами (пусть и с приставкой «лже»), чем чиновники петербургской России, которые руководствовались в большей степени прагматическими интересами, а религию «загнали» в узкие рамки бюрократи-чески-государственного православия. Победа безверия, утверждают евразийцы, обернулась торжеством веры. Но как такое стало возможным?
Евразийцы на этот вопрос прямого ответа не дают, но он и так понятен из характеристики радикального русского революционного материализма, которая была дана П. Н. Савицким в «Двух мирах»: русский материализм – это «идолопоклонство науке». Идолопоклонство ведь тоже форма веры, хоть и извращённая. Иными словами, русские революционные материалисты, атеисты и нигилисты XIX века и их наследники – русские марксисты – принципиально отличаются от западных буржуазных материалистов. Последние – теплохладные критики, ни во что не верящие, опирающиеся только на разум и признающие только относительные ценности. Причём таких можно встретить и среди русских западников, которых Савицкий именует сторонниками «позитивного мировоззрения». В отличие от них, характерный тип русского материалиста – это фанатичный поклонник абсолюта, верующий в него страстно и мечтающий эту веру повсюду насадить. Вот только абсолют у него не Бог, а созданные человеком, посю- сторонние предметы – наука, техника, образование, прогресс.
Таким образом, два культурно-исторических мира – православно-народно-славянофильский и нигилистически-западниче-ски-интеллигентский, которые описывает П. Н. Савицкий, представляя их как полные противоположности, на деле имеют между собой нечто общее. Писарев и Ленин в чём-то бессознательно близки бородатому крестьянину, верящему в «мужицкого Христа», и славянофилу, толкующему о гармонии разума и веры, хотя эта близость сложная, противоречивая и по преимуществу бессознательная. Евразиец Н. Н Алексеев в книге «Пути и судьбы марксизма» отмечал эту диалектическую близость в ленинизме: «В ленинизме западный социал-демократ и ученик Маркса скрестился с “взбунтовавшимся славянофильством” …» [1, с. 64]. Алексеев рассуждает о «догматичности» и «фидеистичности» ленинского марксизма, его требовании принимать на веру учение Маркса и Энгельса и о том отторжении, которое испытывал Ленин по отношению к марксизму II Интернационала, воспринявшему «… в себя известную долю того научного скепсиса, который не отделим от исповедания научных истин и который отсутствует при исповедании моральной или религиозной веры» [1, с.56]. Как видим, по Н. Н. Алексееву, в марксизме Ленина также по-своему уживаются научно-философское мировоззрение с истовой и даже фанатической верой, хоть и безрелигиозной.
Собственно, потому что эти «два мира» – диалектические противоположности, не только борющиеся, но и образующие единство, стало возможным то contradiction histo-rique в судьбах русской революции, на которое указывал П. Н. Савицкий. При этом евразийцы различают разные формы рели-
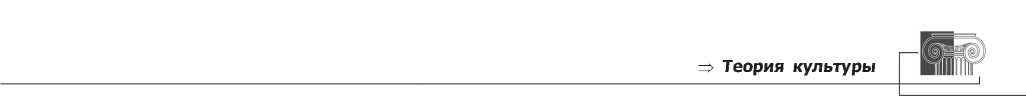
гиозной веры как на одной, так и на другой стороне. Ведь одно дело – наивная детская вера патриархального русского крестьянства, своего рода вера без знания, тот «древний дух», из недр которого родилась русская «вероучительная» художественная литература, и другое дело – вера славянофилов и В. Соловьёва как синтез продуманной, просвещённой православной веры и науки, пусть и перенятой с Запада, но являющейся общечеловеческой ценностью1. Савицкий и другие евразийцы оценивали такой синтез веры и знания, религии и науки как наиболее органический.
«Миру веры» в России, как уже говорилось, противостоял «мир науки и Просвещения», где, помимо «чистых» учёных-позитивистов, воплощающих своего рода «науку без веры», были те, кто олицетворял «идолопоклонство науке». Здесь перед нами тоже синтез веры и знания, который был свойствен русской революционной интеллигенции. Но, по мнению евразийцев, это уже не гармонический, а дурной синтез веры и разума. В «фидеистическом марксизме», если использовать терминологию Мих. Лифшица, мы имеем дело с какофоническим единством противоположностей, а не с «акро-тос», то есть золотой серединой, симфоническим единством [3].
Евразийцы верили, что дурной синтез веры и разума имеет перспективу превратиться в «золотой», и связывали это событие опять же с революцией, которая, по их общему мнению, не закончилась Октябрем и созданием СССР, а должна была завершиться третьим последним аккордом, ко- торый превратит советское государство в православно-евразийскую идеократию. При этом государство останется советским, избавившись от остатков западнической культуры и цивилизации. В этом и состоит суть диалектики: движение вниз, до самой последней точки, неожиданно возносит к противоположной стороне, как при движении по поверхности ленты Мёбиуса. На нечто похожее указывал ещё Платон, согласно которому к идеальному государству философов можно прийти только через тиранию – худшее из государственных устройств.
М. А. Лифшиц о ленинизме как синтезе западной культуры и народного стремления к Абсолюту Советскому философу М. А. Лифшицу принадлежит концепция русской культуры и истории, которая отчасти напоминает евразийскую, но сущностно ей противостоит. В своих лекциях 1943 года Мих. Лифшиц критикует Г. В. Плеханова за абстрактное противопоставление восточного и западного полюсов русской культуры и показывает их диалектические превращения. Особенно впечатляют его рассуждения о том, что все-человечность, интернационализм русской культуры, её стремление к идеалу равенства сформировались не только вопреки азиатскому деспотизму русского самодержавного государства, но и отчасти благодаря ему.
Среди черт простонародной, русской, архаичной традиции, которая «действительно имеет известные корни в восточных элементах истории» [4, с. 91], советский философ отмечает радикальность «… русского крестьянина, который … стремился к коренному глубокому решению общечеловеческих, социальных, нравственных вопросов» [4, с. 92]. Надо ли добавлять, что в дореволюционную эпоху он стремился к это- му на путях религиозного мировоззрения, потому что иного русский крестьянин, не затронутый западным Просвещением, и не знал. Религии Мих. Лифшиц совсем не сочувствует, она проходит у него под грифом «азиатского сплошного быта» и «ядовитого цветка», но философ, который признавал, что и азиатский деспотизм отчасти поспособствовал выработке прогрессивных и демократических черт русского национального характера, мог нечто подобное признать и за народной религиозностью. Как эта народная религиозность, предполагающая своеобразный путь поиска правды в «реакционных формах», может быть связана с ленинизмом на противоположном европейском полюсе русской культуры?
По замечанию Мих. Лифшица, «ленинизм не случайно вырос именно на почве русской культуры» [4, с. 19]. Подобно евразийцам, он видит в ленинизме завершение традиции революционных демократов – Д. И. Писарева, Н. Г. Чернышевского, но оценивает их творчество, в отличие от религиозных мыслителей евразийской школы, всецело положительно. В статье о философских взглядах Чернышевского Мих. Лифшиц, пользуясь словами Ленина, пишет о его «мужицком демократизме». Ленин указывал на «мужицкий демократизм» как на черту оригинальную и, безусловно, положительную, на которую могут и должны опереться большевики. Таким образом, уже в движении революционеров-демократов Мих. Лифшиц, вслед за Лениным, видит соединение западной культуры и народных идеалов. И тот же синтез противоположностей восточного и западного Мих. Лифшиц, по сути, усматривает в ленинизме в его теоретическом и практическом воплощении. Но что общего между ленинизмом и православным консерватизмом русского кре- стьянства? Общим здесь было, прежде всего, стремление к Абсолюту, которым для народа всегда являлся Бог, а в ленинизме это Истина.
Очевидно, что, по Мих. Лифшицу, ленинизм формируется на пересечении низовой народной стихии и интеллигентской западнической культуры, в которой мы, опираясь на евразийцев, уже выделили два направления. И это касается не только демократии, но и вопроса истины. Русским крестьянам были ближе и понятнее «фидеистический» ленинский марксизм с верой в абсолютную истину, пусть и безрелигиозную, чем интеллигенты-меньшевики, которые, подобно идеологам II Интернационала, признавали только относительные истины науки. Ведь и крестьяне верили в абсолютную истину, но облечённую в формы народного, фольклорного православия. Мих. Лифшиц вспоминал, как, будучи ещё подростком, он прочитал книгу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» и вынес оттуда, что главное в марксизме – тезис о существовании абсолютной истины. А сколько ещё подростков того времени – детей крестьян и рабочих, будущих советских философов, писателей, инженеров, читали эту книгу и соглашались с Лениным в его критике сторонников эмпириокритицизма, прежде всего А. Богданова. В определённом смысле им помогало религиозное воспитание, благодаря которому реальное существование абсолютных истины, добра и красоты, как и реальное существование природы, было самоочевидным.
Мих. Лифшиц писал, что «человеком, который вернул абсолютному его реальное содержание, его законную связь с материалистической философией, был Ленин. Противники остро почувствовали новизну этой постановки вопроса, и, например, А. Богданов в полемике с Лениным иронически на- звал его марксизм “абсолютным”» [6, с. 568]. Характерная черта ленинизма, таким образом, состоит в защите абсолютных ценностей от субъективизма и релятивизма разного рода, когда сам марксизм пытались превратить в вульгарно-социологическую теорию, сводящую идеалы человеческого духа и культуры к узко и превратно понятым классовым интересам, а если говорить точнее – к классовым эгоизмам.
Мих. Лифшиц, вслед за Лениным, был убеждён, что живое единство этики и науки в марксизме разрывают, когда пытаются разделить наследие Маркса на абстрактную этическую проповедь, где идеалы лишь «регулятивные идеи», а коммунизм следует понимать в духе Э. Бернштейна: «движение – всё, конечная цель – ничто», и на научную, а именно: политэкономическую и социологическую теорию, да ещё понятую убого-позитивистски – как набор гипотез, каждая из которых будет отброшена, когда обнаружатся противоречащие ей новые факты. И заслуга Ленина состояла в том, что в борьбе с ревизионизмом такого рода он вновь соединил в марксизме науку, этику и эстетику, показав, что наука не может быть этически нейтральной, учёный верит в истину и стремится к ней, подобно тому как настоящий художник не исполняет социальный заказ, а верит в идеал красоты и стремится к нему.
Как уже было сказано, всё это касается не только теоретической стороны ленинизма, но и практической. Мих. Лифшиц часто приводит в пример последние статьи Ленина, где тот, критикуя пролеткультовцев, указывает, что марксизм – это завершение многотысячелетней духовной эволюции человечества и что коммунист должен вобрать всё лучшее, что создала предшествующая культура, в том числе и буржуазная. В этом Ленин видел залог победы социализма в отста- лой аграрной стране, где в общем-то базиса для социалистической революции не было и его необходимо было ещё создать.
Иными словами, учение В. И. Ленина об абсолютной истине – это не отвлечённая метафизика. От существования абсолютной истины и абсолютных ценностей у Ленина зависит быть или не быть в России социализму, напрасна или не напрасна была русская революция и, говоря ещё шире, – имеет ли смысл общественный прогресс, а также имеют ли смысл искусство, наука, борьба за социальную справедливость? Если правы такие сторонники социалистической революции, как А. Богданов и пролеткультов-цы, если истина, красота, добро, справедливость – лишь относительные ценности и отражение узких, относительных классовых интересов, тогда после победы трудящихся над угнетателями ничего не меняется. Это значит, что место одного частного классового интереса занимает другой частный классовый интерес и человечество ни на йоту не продвигается к торжеству социальной справедливости. Да и сама эта справедливость невозможна: для рабочего социализм справедлив, а для капиталиста, которого революция лишила собственности, – очень даже несправедлив.
Мих. Лифшиц по понятным причинам относился к религии отрицательно и даже, похоже, с неприязнью. Но слово «вера» в его лексиконе встречается нередко и употребляется в сугубо положительном ключе. В предисловии к книге «Карл Маркс. Искусство и общественный идеал» Мих. Лифшиц полушутя сравнивает свои марксистские убеждения с верой апостола Петра в Христа – мол, если автор книги ошибётся в трактовке марксизма, то это не вера его ложна, а «молитва слаба». В книге «В мире эстетики» Мих. Лифшиц пишет о своём сорат- нике по борьбе с вульгаризаторами марксизма в 1930-е годы Игоре Ильине: «Игорь Ильин – человек твёрдой веры. Он не меняет свой клад на мелкую монету приспособления к той или другой влиятельной силе …» [5, с. 311]. Там же, излагая основные мысли марксизма на примере взглядов Вильгельма Либкнехта, Мих. Лифшиц пишет о «безрелигиозной вере в истину» [5, с. 260].
Таким образом, не религия, но вера, по Мих. Лифшицу, вполне совместима с научным подходом и подлинно критической рациональностью. Понятно, что Лифшиц не согласился бы с определением Алексеевым ленинизма как «фидеистического марксизма». Но, возможно, он заметил бы, что оно не совсем ложно и что в нём отражено то, что Ленин исходил из «живого благотворного убеждения»1 во всеобщую абсолютную истину. И с этим, на наш взгляд, связана известная горячность и страстность Ленина в спорах и на страницах книги «Материа- лизм и эмпириокритицизм», которую ставят Ленину в вину сторонники позитивистского идеала науки, предпочитающие вежливые и скучные дебаты. Но Ленин не мог дебатировать вежливо и скучно, если речь шла о самом главном – существовании истины и справедливости, как не может богослов сохранять спокойствие и солидность, когда ему говорят: «давайте только допустим, что Бог – не добро, а зло и рассмотрим аргументы...».
Напомним, что евразиец П. Н. Савицкий объяснял выпадение России из пространства европейской просвещенческой культуры как раз в момент кульминации западничества и объяснял это тем, что большевики сумели «оседлать» и использовать народную стихию, желание людей сбросить послепетровское бюрократически искусственное государство. В стане русского марксизма меньшевики были уверены в реакционности такой крестьянской массы, в то время как В. И. Ленин, а вслед за ним Мих. Лифшиц, признавал противоречивую природу русского крестьянства. В этом вопросе они мыслили как раз диалектически, признавая, что в реакционной форме могло выражаться и прогрессивное, революционное содержание (как в случае глубинного демократизма «мужицкого черносотенства»).
Тем не менее раскол между большевиками и меньшевиками был настолько велик, что во время Гражданской войны в стане «белых» уживались меньшевики-марксисты и самые реакционные монархисты. Мих. Лифшиц пишет об этом в лекциях по русской культуре: «... и те силы, которые мы свергли в 1917 году, представляли собой соединение элементов петровского и допетровского типа. Но здесь – в обоих случаях – в их худшем варианте: ложное западничество, ложный отказ от народного, своего, исторически сложившегося типа жизни, с одной стороны, а с другой – та косность, те элементы азиатского “сплошного быта”, неподвижность, которые нужно было сломать, чтоб поднять народ на высоты гражданской и политической жизни» [4, с. 100–101].
***
Как видим, достоинство двух концепций русской культуры, евразийцев 1920– 1930-х годов и М. А. Лифшица, состоит в понимании сложной диалектической взаимосвязи «русской Европы» и «русской Азии» в дореволюционной культуре, не только борьбы, но и единства этих противоположностей. В этом свете в обеих концепциях Октябрьская революция 1917 года предстаёт
закономерным процессом развития этого противоречивого единства. Их различие, однако, в том, что в «фидеистическом марксизме» большевиков евразийцы видели какофоническое единство восточного и западного в русской культуре, а потому надеялись на ещё один рывок в русской истории – от «фидеистического марксизма» к православно-евразийской идеологии в советской России. У Мих. Лифшица порождённый революцией синтез восточного и западного элементов русской культуры, при своей диалектической противоречивости, наиболее органичный, хотя остаётся нужда в укре- плении союза между социалистической демократией марксистской партии и «глубинным демократизмом» крестьянства.
То, как трансформировалось диалектическое единство восточного и западного на этапе нашей истории и культуры, именуемом «сталинизмом», евразийцы и Михаил Лифшиц тоже понимают по-разному. К этой эпохе евразийцы и Лифшиц испытывали амбивалентное отношение. В её сложной диалектике, в силу различия позиций, они определяли в качестве достижений противоположные результаты. Но всё это уже тема отдельного исследования.
Список литературы Два взгляда на диалектику русской культуры и истории: евразийцы 1920-х годов и М. А. Лифшиц
- Алексеев Н. Н. Пути и судьбы марксизма: от Маркса и Энгельса к Ленину и Сталину. Берлин: Издание евразийцев, 1936. 102 с.
- Арсланов В. Г. Русская идея марксиста Мих. Лифшица // Лифшиц М. А. Очерки русской культуры. Москва: культура; Академический проект, 2015.
- Лифшиц М. А. Что такое классика?: онтогносеология, смысл мира, «истинная середина». Москва: Искусство XXI век, 2004. 495 с.
- Лифшиц М. А. О русской культуре и её мировом значении // Очерки русской культуры. Москва: культура; Академический проект, 2015.
- Лифшиц М. А. В мире эстетики. Статьи 1969-1981 гг. Москва: Изобразительное искусство, 1985. 318 с.
- Лифшиц М. А. Мифология древняя и современная: [Избранные работы]. Москва: Искусство, 1980. 582 с.
- Русский узел евразийства. Восток в русской мысли. Сборник трудов евразийцев / С. Ю. Ключ ников (сост.). Москва: Беловодье, 1997. 525 с.
- Савицкий П. Н. Континент Евразия. Москва: Аграф, 1997. 461 с.
- Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. Москва: Аграф, 1999. 554 с.