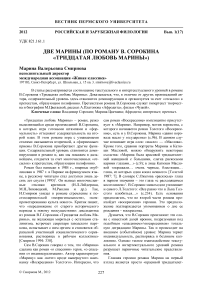Две Марины (по роману В. Сорокина «Тридцатая любовь Марины»)
Автор: Смирнова Марина Валерьевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Пространство В. Сорокина
Статья в выпуске: 1 (17), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается соотношение текстуального и интертекстуального уровней в романе В.Сорокина «Тридцатая любовь Марины». Доказывается, что, в отличие от других произведений автора, содержательный уровень здесь становится доминирующим и организуется за счет «отсылок» к претекстам, образующим полифонию. Претекстами романа В.Сорокина служат гипертекст творчества и биографии М.Цветаевой, рассказ А.Платонова «Афродита», фильм «Чужой».
Владимир сорокин, марина цветаева, афродита, интертекст, претекст
Короткий адрес: https://sciup.org/14729083
IDR: 14729083 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Две Марины (по роману В. Сорокина «Тридцатая любовь Марины»)
«Тридцатая любовь Марины» – роман, резко выделяющийся среди произведений В.Сорокина, в которых игра готовыми штампами и «фор-мульность» оттесняют содержательность на второй план. В этом романе игра с узнаваемыми стилями оказывается вторичной, а «фирменные» приемы В.Сорокина приобретают другие функции. Содержательный уровень становится доминирующим в романе и, как мы покажем в дальнейшем, создается за счет многочисленных «отсылок» к претекстам, образующим полифонию.
Роман был написан в 1984 г., впервые опубликован в 1987 г. в Париже на французском языке, а русскому читателю стал доступен лишь десять лет спустя (1995)1. Он вызвал многочисленные отклики критиков (Н.Л.Лейдерман, М.Н.Липовецкий, М.Рыклин и др.). Так, И.Смирнов увидел в романе стремление к постмодернистской «неоригинальности», «компрометированию культа нового». Критик пишет, что «передвижение от старого исторического периода к новому неосуществимо: диссидентка из романа В.Г.Сорокина «Тридцатая любовь Марины», не желающая мириться с остатками сталинизма, встречает секретаря заводского парткома, испытывает с ним оргазм и становится образцовой участницей социалистического соревнования, растворяясь в рабочем коллективе» [Смирнов 1994: 330].
Сам В.Сорокин говорил о том, что «Марина» сделана как роман «о спасении» героя, «о спасении от индивидуализации». Автор характеризует «Марину» как «нечто вроде вывернутого наизнанку «Воскресения» Толстого». Интересно, что сам роман «Воскресение» имплицитно присутствует в «Марине». Например, мотив воровства, с которого начинается роман Толстого «Воскресение», есть и у В.Сорокина. Марина «давно воровала масло у государства» (с.96). В данном случае возникает игра слов: «масло» — «Маслова». Кроме того, сравнив портреты Марины и Катюши Масловой, можно обнаружить некоторые сходства: «Марина была красивой тридцатилетней женщиной с большими, слегка раскосыми карими глазами…» (с.9); в лице Катюши Масловой «поражали… очень черные, блестящие… глаза, из которых один косил немного» [Толстой 1987: 7]. В словаре С.Ожегова «раскосые» глаза в первом значении – это глаза «с расходящимся косоглазием»2. В.Сорокин мимоходом упоминает и самого Л.Толстого: «Все равно что в Льва Толстого влюбиться…» (с.234). Есть основания предполагать, что во второй части романа произойдет «воскресение» героини. Это предположение подтверждается упоминанием о дне ее рождения – воскресенье.
Думается, что В.Сорокин произносит эти слова с известной долей иронии, подразумевая под подобным «спасением»/«воскресением» тотальную деградацию Марины. Так и происходит на внешнем (событийном) уровне: Марина теряет индивидуальность, растворяясь в безликом коллективе. Однако тесное взаимодействие текстуального и интертекстуального уровней романа разрушает первичные читательские представления.
Главная героиня романа Марина на первый взгляд является просто «красивой тридцатилет- ней женщиной… с мягкими чертами лица и стройной подвижной фигурой». Более того, Марина как говорилось ранее, типичная героиня – в первой части – диссидентской прозы, во второй – соцреалистической. Но уже в первой главе Марина видит в зеркале «свое тройное отражение» (с.32). Она ощущает себя воплощением женственного духа, точнее – богиней любви Афродитой.
В кульминационном сне Марина выходит из морской пены: «Марина осторожно шла по длинному коридору из голубой, слабо потрескивающей пены. Несмотря на свою воздушность, пена была прочной и вполне выдерживала Марину, громко похрустывая под голыми ступнями» (с.178). Венерой Марину называет Валентин: «Венера <…> это ты святого Антония искушала…» (с.11). Имя Венеры и в посвященном Марине стихотворении (с.73).
Помимо прямого указания на «божественную» сущность Марины (Афродита), есть мотив моря, неразрывно связанный с ее образом (мотив «прилива-отлива»), который, в свою очередь, становится в романе неотъемлемой частью всех Марининых любовных сцен: «Ее звали Мария… Волны земной любви… исходили от нее… как пенящийся морской прибой» (с.96); «монотонное чередование теплых волн: прилив-отлив… прилив-отлив…» (с.263).
В «Розе мира» Даниила Андреева, значимой для романа В.Сорокина, есть целая глава «Женственность», посвященная рассуждению о двух Афродитах: «… телесной любви противопоставляли платоническую, мимолетной страсти – любовь неизменную, свободной связи – труд и долг деторождения, разврату – романтическую влюбленность. Иногда различали двойственность трансфизических истоков любви: Афродиту Уранию и Афродиту Простонародную» [Андреев 2001: 258].
В первой части романа Марина выступает в роли, по крайней мере, двух Афродит. В первую очередь это ее «rose love», или Афродита Ура-ния3 (в этом образе, выходящей из пены, Марина предстает в сне). Кроме того, в отношениях с Валентином Марину можно считать Афродитой Простонародной. В одной из реплик Валентин называет Марину «гетерой» (с.14). В романе Марина играет роль подлинной гетеры: она ведет свободный, независимый образ жизни. Один из константных «атрибутов» гетеры – знание музыки, владение музыкальным инструментом. Марина преподает игру на фортепиано в заводском Доме культуры детям рабочих, или, как она их называет, «пролам».
Связь имени «Марина» через морскую стихию с образом Афродиты обнаруживается при обращении к творчеству М.Цветаевой. В стихотворении «Кто создан из камня, кто создан из глины…» М.Цветаева раскрывает «содержание» имени:
Кто создан из камня, кто создан из глины, –
Я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело – измена, мне имя – Марина,
Я – бренная пена морская.
[Цветаева 982, 2: 286]
Слово «пена» и представленная в тексте изотопия морской стихии содержат аллюзию на Аф-родиту4. Свидетельством того, что сама Цветаева соотносила эти имена, является ее письмо к Н. Вундерли-Фолькарт от 17 октября 1930 г.: «Знаете ли, что Марина и Афродита – одно, я знала это всегда, теперь это знают ученые – Марина, морская» [Цветаева 1994, 7: 359].
В.Сорокин в своем романе уравнивает имена Марина и Афродита – помимо номинативной функции вынесенное в заглавие имя «Марина» несет в романе еще и символическую функцию. Сущностью Марины оказывается ее божественно-любовное начало.
В стилистической организации первой части романа большую роль играют античные аллюзии, в контекст которых изящно вписан образ Афродиты: «Не ты ль окаменела тогда под шизоидным взглядом Горгоны?» (с.11); «в его геркулесовых объятьях» (с.13); «Ты сейчас похожа на римлянку времен гибели империи» (с.17–18) и т.д. Античные аллюзии произведения В.Соро-кина органично сочетаются с гипертекстом цветаевской поэзии, в которой постоянно встречаются имена греческих и римских богов и героев. Помимо морского мотива и античных аллюзий в романе содержатся многочисленные отсылки к биографии и творчеству Цветаевой. «Сигналом» традиционно служат имена героев. Так, полное имя героини В.Сорокина – Марина Ивановна (ср.: Марина Ивановна Цветаева), а имя первого «настоящего» мужчины в жизни Марины – Сергей (ср.: Сергей Эфрон).
В.Сорокин акцентирует внимание и на других ассоциативных параллелях, заставляющих читателя соотносить главную героиню с поэтессой М.Цветаевой. М.Цветаева не раз и в стихах («Маме»), и в прозаических произведениях («Мать и музыка») писала о «музыкальной» роли, которую сыграла в ее жизни мать: «Мать залила нас… музыкой… как кровью, кровью второго рождения. Могу сказать, что я родилась не в жизнь, а в музыку» («Мать и музыка» – с.70). Мотив музыки постоянно присутствует в творчестве М.Цветаевой. Музыка оказывается также неотъемлемой частью жизни героини В.Сорокина, причем играть на пианино Марину учила мать – несостоявшаяся музыкантша:
«Мать садилась к пианино, листала ноты, наигрывала романсы и тихо пела красивым грудным голосом. Марину забавляли клавиши, она шлепала по ним руками и тоже пела, подражая матери» (с.30).
Любимым музыкальным произведением Марины, «огненным стержнем, пронизавшим всю ее жизнь» (с.28), оказывается тринадцатый ноктюрн Ф.Шопена. А.Цветаева (сестра поэтессы) отмечала «шопеновский» период в творчестве Цветаевой, относящийся к 1918–1919 гг5.
Как уже говорилось, первая часть романа В.Сорокина почти полностью посвящена «rose love». При этом особое место среди увлечений Марины занимает ее первая любовь – Мария. Этот эпизод заставляет вспомнить увлечение Цветаевой русской художницей Марией Башкирцевой, которая с 10 лет жила за границей, где и умерла от чахотки в 23 года.
А.Цветаева вспоминает, что ее сестру настолько заинтересовала личность молодой художницы, что М.Цветаева начала переписку с матерью М.Башкирцевой. Кроме того, М.Башкирцевой посвящен первый сборник стихов М.Цветаевой «Вечерний альбом». В 1919– 1920 гг., работая над сборником «Юношеские стихи» (1913–1915), М.Цветаева начала книгу со стихотворения «Смертный час Марии Башкирцевой». Потом она отказалась от него так же, как и от эпиграфа: «Принцесса, на земле не встретившая принца…». Как и М.Башкирцевой на момент ее смерти, Марии в романе В.Сорокина 23 года: « – Ну вот, – яростно шепнула Марине Вера… – Сеструху свою притащила… старуха… – А сколько ей? – Двадцать три…» (с.69).
М.Цветаева
Под лаской плюшевого пледа
Вчерашний вызываю сон.
Что это было? – Чья победа? –
Кто побежден?
Вижу я по губам – извилиной,
По надменности их усиленной,
По тяжелым надбровным выступам:
Это сердце берется – приступом!
Биография и творчество М.Цветаевой в качестве претекста выполняют и другую функцию: раскрыть содержание имени «Марина». Кроме того, на основании отсылок к образу М.Цветаевой ассоциативно сближаются две части романа. В финале Марина становится при-
Такая же разница в возрасте, как у Марины с Марией в «Тридцатой любви…», была у М.Цветаевой с ее реальной подругой – поэтессой Софьей Яковлевной Парнок (сафическая любовь). «Большие серые глаза, бледное лицо… Парнок очаровала ее с первой же встречи. Отчасти влекло преимущество возраста (Парнок была старше Цветаевой на семь лет); лишившись матери, Цветаева тянулась к женщинам старше себя» [Саакянц 1997: 69]. Вспомним, что в романе мать оставляет Марину и обзаводится другой семьей: «Дядя Володя увез маму в Ленинград, комнату сдали, Марина переехала в Москву к бабушке» (с.79). Темой цикла стихов Цветаевой «Подруга» является любовь двух женщин, причем инициатива исходит от старшей.
В.Сорокин вводит в роман голос М.Цветаевой для достижения разных целей. Можно предположить, что таким образом он решает одну из проблем гендера: передачи писателем-мужчиной «женского» голоса. И.Жеребкина в книге «Страсть. Женское тело и женская сексуальность в России» отмечала, что в русской литературе интерпретаторами «женской субъективности», как правило, выступают мужчины, при этом женщина либо «вообще лишена языка», либо «она обретает язык, хотя он и нуждается в концептуализации со стороны мужчины» [Жеребки-на 2001: 20, 21]. В данном случае В.Сорокин, избегая попыток интерпретации «женской субъективности», заменяет свой «мужской» голос «женским». Как осуществляется такая «подмена», видно при сопоставлении строк цикла М.Цветаевой «Подруга» со сценами из романа В.Сорокина:
В.Сорокин
«Тяжелый сон… – подумала она, вспоминая. – Постой… Там же было что-то главное, важное… забыла, черт…» (с.124).
«Маша с Мариной лежали…, отдыхая после продолжительной борьбы, закончившейся обоюдной победой» (с.152).
«Глаза их встретились, улыбка cошла с красивого лица Марии, черные дуги бровей дрогнули…» (с.69).
верженицей советской власти, которую в обиходе – известный факт – называли «Софьей Влась-евной»6. Полагаем, что тождество имен Софьи Парнок (также Софьи Голлидей) и Софьи Власьевны в данном случае иронически уравнивает «rose love» и любовь к советской власти, так же оказывающейся «гомосексуальной». Важно то, что Марина действительно растворяется в отрывках из передовиц, т.е. как бы становится тождественной Софье Власьевне, оказывается ее воплощением. Подобное «растворение» друг в друге, тождество, как уже отмечалось, возникало у Марины и с ее «сафическими» подругами Марией и Сашенькой.
Необходимо вспомнить трагическую историю любви М.Цветаевой и С.Эфрона. После возвращения в Россию он был расстрелян в октябре 1941 г. за сотрудничество с западными секретными службами. В течение жизни Цветаева проходит путь от внутренней свободы и безграничной индивидуализации до самоубийственного «вживания» в тоталитарную действительность.
Пути М.Цветаевой и Марины параллельны. Марина идет за Сергеем и в итоге «растворяется». Подобное «растворение» может восприниматься как смерть. Марина лишается тела, а вместе с ним – индивидуальности. Но лирическая героиня М.Цветаевой воспринимала смерть не как конец жизни, а как своеобразный переход, ведь она создана не из глины, как смертные, а из морской пены. Если следовать этой логике, то во второй части романа Сорокина Марина действительно “воскресает”.
В интервью по случаю запланированного выхода в свет перевода на иврит «Тридцатой любви Марины» В.Сорокин, апеллируя к А.Солже-ницыну, сказал, что «тело – это главный ГУЛАГ человечества» [Иоффе 2003]. Человеческое тело отвратительно для Сорокина, и жизнь в нем воспринимается как смерть7, а божественное начало, которое легко обнаруживается в Марине, надын-дивидуально8. Из сказанного следует, что смерть в романе одновременно оказывается воскресением, лишение тела компенсируется обретением божественного света, любовь к советской власти в стране, где нет секса, гомосексуальна.
В качестве претекста второй части романа В.Сорокина может быть рассмотрен рассказ Платонова «Афродита». В.Сорокин использует тот же, что и в первой части, способ «отсылки». Так, Марина с Сергеем Николаевичем посещают литейный цех (с.185). В литейном цехе работал когда-то и А.Платонов. Отметим, что Платонов неоднократно упоминается в романе. Например, «…она подошла к книжным полкам, вытянула двухтомник Платонова…» (с.173).
Смысл платоновского рассказа «Афродита» оказывается созвучным замыслу В.Сорокина. Главный герой Назар Фомин, подобно героям В.Сорокина, «одушевлен» … «идеей создания нового мира», он мечтает о «братстве», которое «постепенно распространится по всей земле» [Платонов 2002: 304–305]. При этом Назар из тех, кто, по В.Сорокину, «дело делает»: этот герой, как и Марина, «страстными глазами» смотрит на изготовленные собственными руками изделия [там же: 304].
Жену Назара зовут «Наталья Владимировна», однако герой дает ей имя «Афродита», т.к. ее «образ» «явился для него тоже поверх пены», хотя и не морской, а пивной [там же: 298]. Для Назара существуют две Афродиты: «верная Афродита – это богиня», а есть еще и другая – та, которая неверна и предается разврату. Первая Афродита, заключавшая в себе божественнолюбовное начало, связывалась в сознании Назара с верностью идее. В одной временной плоскости оказываются измена–уход героини и поджог электростанции, которая была делом жизни героя. По мысли А.Платонова, «возрождение» человека происходит при наличии двух составляющих – Афродиты и служения идее. Такое же возрождение происходит во второй части романа В.Сорокина.
Рассказ «Афродита» представляет еще одну мотивацию «перерождения» Марины. В первой части романа героиню все время мучил вопрос ее воображаемого собеседника А.Солженицына: «Что ты сделала, чтобы называться ЧЕЛОВЕКОМ?» (с.148). Сначала Марина стремилась к индивидуальному счастью, что, как следует из претекста, недостойно Человека: «В сущности, в стремлении к счастью для одного себя есть что-то низменное и непрочное; лишь с подвига и исполнения своего долга перед народом, зачавшим его на свет, начинается человек…» [Платонов 2002: 314]. В финале романа Марина, согласно концепции А.Платонова, заслуживает звание человека, так как она приобщается к коллективу, становится «участницей» всеобщего счастья и «возрождается».
В.Сорокин предоставляет возможность и еще одного прочтения своего текста. В одном из интервью на вопрос И.Смирнова «что мы… можем предложить взамен сверхчеловека Ницше, социалистического человека…» В.Сорокин ответил: «Мне кажется, очень перспективно и заманчиво слияние генной инженерии и мутимедиаль-ных и наркотических миров. Наверное, в этом направлении и будет двигаться человечество» [Смирнов 1999: 112]. Далее В.Сорокин иллюстрирует этот тезис примером фильма «Чужой», где человек боролся с «античеловеческим монстром, который пользовался человеком как мясом для выращивания своего потомства» [там же]. Знаменательно, что именно так диссиденты воспринимают советскую власть, социалистическую действительность. В четвертой серии фильма «под названием “Возрождение” человек неожиданным образом побеждает Чужое, сливаясь с ним». Таким образом, происходит симбиоз человека с «другим, нечеловеческим» [там же: 112]. Подобный симбиоз и – как его следствие – «возрождение» происходит и в романе В.Сорокина.
Список литературы Две Марины (по роману В. Сорокина «Тридцатая любовь Марины»)
- Андреев Д. Роза мира. М., 2001.
- Жеребкина И. Страсть. Женское тело и женская сексуальность в России. СПб.:Алетейя, 2001. 336 с.
- Иоффе Д. Разговорный жанр жизнетворчества. Беззаконные шестьдесят вопросов к автору «Нормы»//Топос. 2003. 17 апр.
- Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: в 3 кн. М., 2001. Кн.3. С.54-61.
- Платонов А. По небу полуночи. СПб.: Азбука, 2002. 320 с.
- Рыклин М. Медиум и автор -Сорокин В.//Собр. соч.: в 2 т. М., 1998. Т.2. 737 с.
- Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М., 1997.
- Смирнов И.П. Диалог с глазу на глаз (с Владимиром Сорокиным). Клоны и ангелы. СПб., 1999. С.108-124.
- Смирнов И.П. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994. С.330.
- Сорокин В. Тридцатая любовь. М.: "Издание Р. Элинина", 1995. 286 с.
- Толстой Л.Н. Собрание сочинений: в 12 т. Т.10. М.: Правда, 1987. 544 с.
- Цветаева М. Стихотворения и поэмы: в 5 т. N.Y., 1982.
- Цветаева М. Повесть о Сонечке//Соч.: в 2 т. М., 1988. Т.2.
- Цветаева М.И. Собрание сочинений: в 7 т. М., 1994.