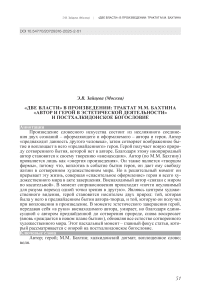«Две власти» в произведении: трактат М. М. Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности» и постхалкидонское богословие
Автор: Зайцева Э.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
Произведение словесного искусства состоит из неслиянного соединения двух сознаний - оформляющего и оформляемого - автора и героя. Автор «преднаходит данность другого человека», затем сотворяет воображенное бытие и воплощает в него «преднайденного» героя. Герой получает новую природу сотворенного бытия, которой нет в авторе. Благодаря этому иноприродный автор становится к своему творению «вненаходим». Автор (по М.М. Бахтину) проявляется лишь как «энергия произведения». Он также является «творцом формы», потому что, воплотив в событие бытия героя, он дает ему свободу жизни в сотворенном художественном мире. Но в решительный момент он прерывает эту жизнь, совершая «спасительное оформление» героя и всего художественного мира в акте завершения. Вненаходимый автор «связан с миром по касательной». В момент соприкосновения происходит «почти неуловимый для разума переход одной точки зрения в другую». Являясь центром художественного видения, герой становится носителем двух природ: той, которая была у него в преднайденном бытии автора-творца, и той, которую он получил при воплощении в произведение. В моменте эстетического завершения герой, передавая себя «в руки» вненаходимого автора, умирает, но благодаря единосущной с автором преднайденной до сотворения природе, снова воскресает (вновь «рождается в новом плане бытия»), обновляя все естество сотворенного художественного мира. Этот пасхальный момент - главный фокус статьи, который рассматривается с опорой на постхалкидонское богословие.
Герой, м.м. бахтин, халкидонский догмат, воплощенное слово, воля
Короткий адрес: https://sciup.org/149148631
IDR: 149148631 | DOI: 10.54770/20729316-2025-2-51
Текст научной статьи «Две власти» в произведении: трактат М. М. Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности» и постхалкидонское богословие
Author; hero; M.M. Bakhtin; Chalcedonian dogma; embodied word; will.
Эстетическим объектом литературное произведение становится благодаря неслиянному соединению двух различных сознаний оформляющего и оформляемого – сознания автора и сознания героя. Авторское сознание, обнимая несовместимое с собой другое воображенное сознание, становится «сознанием сознания», которое необходимо отделить, завершить со своей внешней позиции. Граница, где происходит переход от воли героя к завершающей воле автора, – композиция произведения. Это формальная, семиотически зримая граница, на которой вненаходимый и иноприродный автор, существующий в своем воображенном мире лишь как «энергия произведения», становится «видимым всем и невидимым». Он не воплощен, не явлен, но вся соразмерность и «воззрительно необходимое, неслучайное расположение и связь конкретных, единственных частей» [Бахтин 2017а, 104] произведения свидетельствуют о том, что у этого сложного художественного мира есть разумное творческое начало.
Наличие двух неслиянных сознаний, вненаходимого авторского и внутреннего геройного, определяется наличием аксиологически равнодостойных систем в одном произведении: композиционной и архитектонической. Воплощенный герой и мир вокруг него образуют архитектонику произведения, но выделить, определить, оформить и завершить этот сложный мир может только сотворивший его иноприродный субъект извне – автор. М.М. Бахтин называ- ет автора «творцом формы». Оформляя героя, «творец формы» останавливает динамическое движение самостоятельно развивающейся жизни. Акт эстетического завершения М.М. Бахтиным определяется в сотериологических категориях: «спасительность формы», «милующее оправдание», «спасение героя» и др.
Два различных сознания не абсолютно чужды друг другу. Их связывает единая «общечеловеческая природа», взятая из жизненного внеэстетического материала до воплощения героя в форму воображенного бытия. Наличие этой внеэстетической природы (содержание), осложненной в процессе воплощения в произведение материей сотворенного бытия (формой), позволяет совершить эстетическое завершение.
С одной стороны, «отношение автора к герою», называется М.М. Бахтиным «архитектонически устойчивым», с другой – «динамически живым» [Бахтин 2017а, 122]. Мы имеем дело с завершенным процессом сотворения эстетического объекта и с бесконечной необходимостью соучастия в созерцании его с вненаходимой позиции. В этом, вероятно, и состоит эффект «спасения» несуществовавших Дон Кихота, Гамлета, Фауста, Печорина, доктора Живаго и др. «Спасенные» герои литературных шедевров переживают своих реальных авторов и читателей, которые уходят с поверхности земли, а они остаются с человечеством, дают надежду, утешают.
На наш взгляд, причина незатухающей жизни эстетического объекта заключается, во-первых, в жизненном материале, который связывает единой природой автора, героя и читателя в эстетической деятельности, и, во-вторых, в характере отношений воплощенного героя и вненаходимого воплощающего автора. Наша задача – попытаться объяснить механизм «перехода» воли героя к воле автора в акте завершения художественного мира или, лучше сказать, механизм «перехода» архитектонической системы произведения в композиционную оформляющую (сотериологическую). На композиционной оформляющей границе сотворенное воображенное бытие превращается в «поистине художественное» произведение искусства и является местом встречи трех сознаний эстетического события. Герой подходит к этой границе изнутри, а автор с читателем – извне.
Эстетический акт (по М.М. Бахтину) состоит из нескольких этапов: пред-нахождения другого сознания, воплощения его как героя в событие бытия художественной вселенной, завершающего оформления, или «милующего оправдания» героя.
В начале «автор преднаходит героя данным независимо от его чисто художественного акта» [Бахтин, 2017а, 272]. Герой существует как некая «данность человека другого, она-то и преднаходится автором как художником» [Бахтин, 2017а, 272]. Эта еще не воплощенная «внеэстетическая реальность героя войдет затем оформленная в произведение», образуя новую «реальность героя – другого сознания» [Бахтин, 2017а, 272]. При нахождении «другого человека» творец формирует новое воображенное бытие, централизующееся вокруг героя. Этот «художественный акт встречает упорствующую (упругую, непроницаемую) реальность, с которой он (автор – Э.З. ) не может не считаться и которую он не может растворить в себе сплошь» [Бахтин 2017а, 272]. Происходит некое сопротивление реальностей, двух волевых напряжений: автора и героя, творца и творения.
Полностью вбирая в себя сознание воображенного другого-героя («тотальная реакция автора на героя» [Бахтин 2017а, 272]), автор не может с ним слиться, так как воплощенное бытие иной природы. Автор проявляется в своем эстетическом объекте как «все пронизывающая невоплощенная активность» [Бахтин 2017а, 334]. Характеристики присутствия автора как «энергии произведения» имеют богословские корни: принципиально иноприродный Бог поддерживает сотворенный мир своей нетварной божественной энергией (учение преп. Григория Паламы).
Однако «преднаходимый» герой до сотворения («в начале»), когда еще не было времени (художественного хронотопа), воплощаясь или приобретая форму, эту искру начального вневременья имеет с собой в сотворенном воображенном бытии. «Преднаходимая данность другого человека» приобретает художественную форму и «получает ценностный вес эстетическое завершение» [Бахтин 2017а, 273]. Если бы воплощенный герой не имел бы в себе природу «предбытия», не был бы «преднайден» вне своего воплощенного пространственного, временного целого, то эстетическое завершение было бы невозможно; если бы герой имел в себе только природу нового сотворенного бытия, он «не был бы живым» [Бахтин 2017а, 272]. Чтобы осуществилось эстетическое завершение, он должен быть оформленным содержанием, то есть совмещать в себе две природы.
В статье «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве» (далее – ПСМФ) [Бахтин 2017b, 280–336] эти две природы героя названы неслиянным / нераздельным единством содержания и формы. Соединяясь в целое произведения, две природы (не сливаясь и не разделяясь!) образуют своеобразное смысловое единство, которое М.М. Бахтиным называется формой содержания, или содержанием формы. Такое единство можно назвать инкарнированным смыслом или воплощенным словом. Поскольку созданный мир централизуется вокруг воплощенного героя, то следует говорить, что смысловое формосодержательное единство воплощается двуприродной личностью героя.
Этот принцип двуприродного вочеловечивания героя, «почти неуловимый для разума переход от одной точки зрения в другую» [Бахтин 2017а, 115], – важнейший момент, благодаря которому осуществляется эстетическое событие. В современном литературоведении принято говорить о «субъектно-объектной структуре произведения» («теория автора» Б.О. Кормана) [Корман 1972].
Проблемам инкарнации смысла в бахтинском понимании посвящена монография Ю.В. Подковырина «Инкарнация смысла литературного произведения» [Подковырин 2022, 301]. Исследователь подходит к данной проблеме с философской стороны, мы же попытаемся объяснить ее с богословской стороны.
В статье ПСМФ и в трактате «Автор и герой в эстетической деятельности» есть два почти идентичных отрывка о «двух властях» в произведении. В своем диалектическом единстве они представляют собой развитие одной последовательно развивающейся христологической идеи. Во-первых, художественная форма двуприродна и двувластна, а, во-вторых, герой как носитель двух природ и двух властей подчиняется вненаходимой воле автора.
Первый отрывок:
В художественном произведении как бы две власти и два определяемых этими властями правопорядка: каждый момент может быть определен в двух ценностных системах – содержания и формы, ибо в каждом значимом моменте обе эти системы находятся в существенном и ценностно-напряженном взаимодействии. Но конечно, эстетическая форма со всех сторон объемлет возможную внутреннюю закономерность поступка и познания, подчиняет ее своему единству: только при этом условии мы можем говорить о произведении как о художественном [Бахтин 2017b, 305]
И второй отрывок:
В художественном целом две власти и два созданных этими властями правопорядка, взаимообуславливающих друг друга. Каждый момент определяется в двух ценностных системах, и к каждом моменте обе эти системы находятся в существенном, напряженном ценностном взаимоотношении – это пара сил, создающих ценностный событийный вес каждого момента и всего целого <…> Две закономерности управляют художественным произведением: закономерность героя и закономерность автора, содержательная и формальная закономерность… Героя нельзя создать с начала и до конца из чисто эстетических элементов, нельзя сделать героя, он будет не живым, не будет ощущаться его эстетическая значимость [Бахтин 2017а, 272].
Главная мысль ПСМФ состоит в том, что произведение словесного творчества становится эстетическим объектом в случае правильно сбалансированного сочетания формы и содержания в произведении. Этот закон взаимодействия определен М.М. Бахтиным халкидонским термином христианской веры о неслиянном и нераздельном соединении двух различных природ произведения – содержательной и формальной. Халкидонский закон о неслиянном, неизменном, нераздельном, неразлучном взаимодействии двух природ в воплощенной личности Христа помогает разобраться в характере взаимодействия двух природ в произведении. Догмат о воплощении объясняет возможность восстановления утраченного грехопадением богообщения и дает возможность движения к собственному обóжению (теозис) приобщением к двуприродному воплощенному Богу («Бог вочеловечился, чтобы человек обóжился», богословское расхожее выражение, приписываемое Иринею Лионскому). Подобным образом догмат о воплощении в области эстетического творчества объясняет возможность входа в эстетический объект. Посредством приобщения к жизни (бахтинское «вживание») двуприродного героя происходит диалог читателя с «творцом формы». Читатель становится со-творцом формы, со-автором, как бы не по природе, а по благодати.
Статья ПСМФ объясняет принцип соединения формы и содержания, отсылая к халкидонскому догмату. Две природы произведения соединяются по принципу этого догмата о воплощении – неслиянно / нераздельно. Уточняя халкидонский принцип соединения, Бахтин говорит о том, что неслиянное / нераздельное соединение двух природ произведения имеет две свои власти, два своих волевых напряжения, что отсылает, во-первых, к словам евангельского Христа о двух властях внутри Него (Ин. 10: 18), а, во-вторых, к постхадки-донскому богословию, углубляющему принцип двуприродности. Так как две неслиянные / нераздельные природы имеют две неслиянные / нераздельные воли (власти).
Развитие христологической идеи в диахроническом аспекте догматического богословия можно разделить на дохалкидонское и постхалкидонское богословие. Дохалкидонское богословие связано с преодолением двух крайностей александрийской и антиохийской богословских школ. В своем пределе одна традиция дошла до отрицания человеческой природы Христа, другая – божественной. Догмат, принятый на Халкидонском соборе (451 г.), примирил две школы, предложив формулу неслиянности и нераздельности двух природ в одной ипостаси Христа. Постхалкидонское богословие – это период церковной истории, когда халкидонский принцип нуждался в уточнении, углублении.
Учение о двух волях возникло в истории христианства из потребности объяснить глубину неслиянного и нераздельного принципа соединения человечества и божества в личности Христа в борьбе с монофелитской ересью.
Суть монофелитской ереси в следующем: при двуприродном соединении человеческая воля Христа поглощается и растворяется божественной. Главным противником этой ереси был преп. Максим Исповедник, который своим учением о двух волях показал, что во Христе одинаково неслиянно и нераздельно действовали две воли. Человеческая воля и божественная сосуществуют, но вследствие Своей безгрешности человеческая воля внутри личности Христа всегда свободно следует за божественной. Эта воля двух воль является Его собственной воипостасированной волей как Сына (как второй Ипостаси), что в итоге приводит Его к вольным страданиям на Кресте. Воля Отца, которой следует воиспостасированная воля Сына, состоит в спасении человечества через смерть и воскресение Богочеловека: «Если воля Сына идентична воле Отца, то человеческая воля, делаясь волей Сына, есть Его собственная воля, и в этой Его воле – вся тайна нашего спасения» [Дворкин 2006, 510].
У формы и содержания есть два различных волевых напряжения, которые и во всей полноте сосуществуют в произведении как власть формы и власть содержания, но, подчиняясь эстетическому единству, отдаются во власть завершающему эстетическое оформление автору (вненаходимому, иноприродному). Только при этом условии произведение становится шедевром. Воплощенный герой, имея внутри себя две природы и две ценностные напряженные воли, в определенный решительный момент как бы говорит автору: «Но не как я хочу, а как ты». Свою волю свободно отдает воле своего творца-автора, который совершает оформляющий завершающий акт.
Единство формы и содержания формируют эстетический мир вокруг героя. Герой, воплощенный персонифицированный смысл [Подковырин 2011, 301–303] – это двуприродная личность. Одна природа единодушна природе творца (автора), другая природа единосущна новому оформленному бытию.
В богословии это двусоставное соединение двух природ и двух воль внутри Христа обозначается выше примененным термином воипостасированность . Человеческая и божественная природа не слилась и не разделилась, но воиспоста-сировалась. Человеческая воля не поглотилась божественной, а, свободно следуя внутри себя божественной воле, образовала сложную (термин преп. Максима Исповедника) Ипостась второго Лица Троицы (замешав в нее человеческую природу). Христос во время Гефсиманской молитвы преодолел сопротивление человеческой (формальной) воли: «Да минует Меня чаша сия, но не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26: 39) и передал всего Себя (сложного) воле Творца. Необходимо было, чтобы человеческая воля свободно согласилась на завершающую дело спасения мира волю Творца. Но спасение человечества совершается благодаря наличию божественной природы, которую имел в Себе воплощенный Богочеловек еще до создания мира. Данные размышления основываются на учении преп. Максима Исповедника о двух волях в интерпретации П.Ю. Малкова [Малков 2022].
Теперь снова обратимся к М.М. Бахтину:
Сложным и неоднородным с точки зрения нашей проблемы (проблема взаимодействия я и другого – Э.З. ) представляется христианство <…> Христос Евангелия <…> Все люди распадаются для него единственного и всех других людей, его – милующего и других – милуемых, его спасителя и всех других – спасаемых [Бахтин 2017а, 162].
М.М. Бахтин говорит, что во Христе существовало как бы две природы одновременно – я и другой. Поэтому у Него не было нужды в другом, как у всех обычных других, по логике взаимодействия я и другого в бахтинском учении. Сам в Себе Он оформлял и прощал другого . Но другой в Нем не какой-то конкретный ипостасный. Внутри Него было все человечество в целом, которое Им воспринятое, Им же врачуется. Внутри Него две природы, две воли. Нам кажется, что предикатам сложный и неоднородный , исходя из логики исследования, можно придать терминологический статус. Сложный – так как сложен из двух природ, неоднородный – так как эти две природы онтологически различны.
Богословское размышление о механизме спасения мира Христом содержится у М.М. Бахтина в собственных заметках о хронотопе в романе:
Последнее безысходное отчаяние Распятого («почто ты меня покинул»). Но если бы не было этого отчаяния, <…> то искупление не могло бы состояться, чаша не была бы испита до конца, вочеловечива-ние не было бы полным. Это глубоко человеческое отчаяние [Бахтин 2012, 509].
Локализация этих строк, выражающих крайнюю кенотическую формулу ( быв послушен даже до смерти и смерти крестной – Флп. 2), в главах о романном хронотопе еще раз свидетельство тому, что в мире М.М. Бахтина герой и Христос тождественно связаны, если не сущностно, то по крайней мере функционально.
«Восстановление человека во Христе есть восстановление космоса в его первоначальной красоте» [Мейендорф 2007, 219]. Так акт завершения, по М.М. Бахтину, спасает самого героя, преображает и все воображенное бытие в целом. Хронотоп в данном случае является главным составляющим «материи» этого бытия.
Акт завершения – это эстетическая пасха, включающая в себя смерть героя и воскрешение его в новом плане бытия: «Чем глубже и совершеннее воплощение, тем острее слышатся в нем завершение смерти и то же время эстетическая победа над смертью» [Бахтин 2017а, 220].
Смерть героя в акте завершения оборачивается победой над смертью и преображением всего сотворенного бытия в целом. Он смог умереть благодаря наличию в себе формальной природы сотворенного бытия. Но смерть не в силах «его удержать» благодаря жизни внутри него («внеэстетический жизненный материал», «природа содержания», по М.М. Бахтину).
Его первая природа, единосущная авторской, природа жизненного содержания, «преднайденная до воплощения данность другого человека» [Бахтин 2017а, 272], изнутри воскрешает вторую формально-материальную природу.
Герой до творения нового художественного бытия от начала был «пред-находим» автором, но, воплотившись, воспринял новую, отличную от автора природу, – формальную (семиотическую). Каждый момент произведения проникнут и содержательной (духовной) «властью», и формальной (плотской-я-зыковой-знаковой) «властью». Для того, чтобы автор мог спасти, преобразить, завершить свое творение, он принимает всего героя, вобравшего в себя каждый атом сотворенной формальной стороны произведения. «Ибо не воспринятое, не уврачевано» [Григорий Богослов 1912, 10], но спасение сотворенного художественного мира происходит благодаря содержательной природе героя, которая была у него до воплощения в этот сотворенный мир.
Герой (воплощенный двумя природами) с автором находится в некотором непримиримом сопротивлении из-за формальной (формосодержательной) природы, которой нет в авторе. Но прежде своего воплощения «герой уже был преднаходим» [Бахтин 2017а, 272] во внеэстетическом бытии автора. «Эта вне-эстетическая реальность героя и войдет оформленная в его произведение» и «только по отношению к ней (преднаходимой внеэстетической природе героя – Э.З. ) имеет ценностный вес эстетическое завершение» [Бахтин 2017а, 273]. Герой не абсолютно чужд автору, чуждой является только его воспринятая сотворенным бытием произведения природа, ее он свободно отдает в решительный момент вненаходимой воле автора.
Отношение автора к герою М.М. Бахтин называет «отношением любящего к любимому» [Бахтин 2017а, 188]. Отношения внутри Троицы блаж. Августин называет отношением «любящего, любимого и любви» [Августин Аврелий 2004, 184–203]. Автор, по М.М. Бахтину, от избытка любви сотворяет художественный мир, затем воплощает в нем единственного своего «любимого» героя («данность другого человека»), дает ему свободу жизни в мире, но в завершении принимает жизнь героя, преображая этим актом весь мир воображенной вселенной определенным модусом художественности [Тюпа 2024, 39–59].
Встреча двух властей произведения, двух воль, автора и героя, происходит на границе соединения архитектонической формы и композиционной. Актуализировать эстетический объект призвана вступающая в диалог третья воля читателя.
Если все три неслиянные индивидуальные воли соединятся в единую (общечеловеческую) волю в рамках одного воображенного мира, то случится эстетическое событие. Мертвый языковой материал, текст, оживет жизнью живых лиц дискурса.