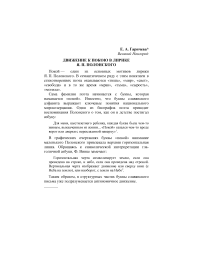Движение к покою в лирике Я. П. Полонского
Автор: Гаричева Е.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.8, 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается семантика одного из основных мотивов лирики Я.П. Полонского: покой – это рождение веры в душе человека, смиренное молитвенное приятие благодати, стремление к равновесию земного и небесного, возрождение целостности в духе, преображение. Показывается, что преображение личности возможно, если сердце человека сохраняет веру в идеал и способность к состраданию. Интонация и мелодика стихотворений раскрывает душевное и духовное движение к покою лирического героя. Кроме того, раскрывается смысл метафор, которые у Полонского становятся символами, и символика цвета, которая соотносится с иконописью.
Мотив, покой, благодать, метафора, символ, интонация, мелодика
Короткий адрес: https://sciup.org/14749237
IDR: 14749237
Текст статьи Движение к покою в лирике Я. П. Полонского
-
7 Гаспаров Б. П. Заметки о Пушкине // Новое литературное обозрение. 2001. № 52. С. 123.
И думал: // в эту ночь / хранитель-ангел мой / пройдет ли в тишине / беседовать со мной?.. — //
Завершение строки паузой-ферматой, переданной через нанизывание нескольких знаков препинания подряд (вопросительный знак, многоточие, тире), создает наивысшую точку напряжения стихотворения. За вопросом следует не просто молчание — оно размыкается жестом тире и уводит в бесконечность. Ответом на вопрос ребенка становится явление ангела. Само видение передается ровным течением стиха, разбиваемым одной внутренней цезурой, но цезура исчезает в строках, передающих состояние покоя и отрешенности:
Мне сладок был покой в его лучах; // Я весь проникнут был божественною силой.
Ровность поэтического голоса в этом двустишии передает удивительную легкость, «невесомость» состояния души. Душа обретает покой в Боге и свободу, ее окрыляющую. Кульминационная строка стихотворения «Ангел» по ритмико-мелодическому рисунку напоминает строку из ежедневной вечерней молитвы:
Мне сладок был / покой / в его лучах — Мирен сон / и безмятежен / даруй ми.
Описание ангела завершается паузой-умолчанием, которая передается через многоточие:
И отражалась в них какая-то печаль... //
Эта долгая пауза становится символом текста, невозможного для воплощения.
Стихотворение «Ангел» перекликается с другим, казалось бы, пейзажным стихотворением, где поэт изображает лилию. По мысли В. Н. Топорова, бытие раскрывается для нашего сознания только через метафору8. Е. В. Ермилова считает, что метафора у Полонского близка к символу, поскольку в ней содержится смысловая глубина, недоступная однозначному определению9. В Евангелии от Матфея лилия свидетельствует о творчестве Божественного Художника, который «одевает» земное в красоту:
И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; Но говорю вам, благодатное воздействие Бога, которое сообщает миру жизнь, определяет творческую мощь твари, — так и те особые, т. е. вне «порядка», установленного от века Господом, действия, которые обнимаются понятием чуда... нам не дано «видеть» все, что благодатно устрояет в своем вхождении в мир Господь, — мы только осознаем, как бы глухо, наличность «не явленных чудес»10.
В то же время в Евангелии образ лилии соотносится с Девой Марией и становится знаком ее чистоты и покорности воле Божией — этот цветок держал в руках архангел Гавриил, когда нес Благую Весть о Рождении Спасителя12. Тему Благовещения в иконописи И. Е. Данилова определяет как «тему вхождения, внедрения в мир Слова как некоторой преобразующей этот мир силы или энергии»13.
Цветовая палитра этого стихотворения не отличается разнообразием: белый цвет лилии, лазурь небосвода и золотая пыль на цветке. Золото выделяется из этого ряда, поскольку оно «предметно», «вещественно». В стихотворении Полонского выстраивается цветовая или световая иерархия: золотой, белый, лазурный. А. Н. Овчинников отмечал, что в иконе «лазурь в своем абсолютном значении представляет небесную истину... и символ бессмертия»14.
Смена интонаций в этом стихотворении передает постепенно возрастающее экстатическое состояние души и затем живописи // Данилова И. Е. Искусство Средних веков и Возрождения. Работы разных лет. М., 1984: [Электронный ресурс]: Режим доступа: http//www .iconaantika .spb/ru/danilova .html
-
14 Овчинников А. Н. Указ. соч.
379 обретение ею возвьппенной бесстрастности, паузы здесь символичны. В первом предложении после запятой следует тире, которое словно отрывает от земли, устремляя душу в горний мир, — «и все в томительном покое». Многоточие после слов «в пятнах света тени спят в аллее» становится не умолчанием, а намеком на возможность движения в знойной тишине. Повтор запятой и тире после слов «поникла у балкона», «ждет грозы» вновь словно размыкает пространство и время. Движущаяся скачками речь вдруг становится плавной и ровной после слов «И грезится ей бедной». Безжизненная ровность и отрешенность от земного мира отличает строки, в которых передается пророческое видение:
Что далекой бури призрак бледный / Стал темнеть в лазури небосклона... //
Произносительный модус кульминации стихотворения Полонского напоминает строку из «Песни Пресвятой Богородице»:
Что далекой / бури / призрак бледный — Яко Спаса / родила еси / душ наших.
После паузы происходит слом интонации: умиление сменяется сожалением («Грезы лета кажутся ей былью, — // Гроз и бурь она еще не знает»). Поэтический голос в последнем двустишии трижды прерывается паузой, которая выражается многоточием после слов «ждет», «зовет», «золотой осыпанная пылью». Напряженное молчание передает импульс, которым вызывается человеческая душа из природного небытия, и одновременно ее готовность к движению и обретению подлинного покоя — в стяжании Святого Духа.
Входя в царство покоя Божия, человек в готовности исполнить волю Божию обретает свободу. Этот свободный выбор позволяет человеку вернуть целостность в духе. Высшей стадией вхождения в покой, по мысли преподобного Максима Исповедника, является соединение с Богом в любовном исступлении16. Подобный экстатический порыв показан в стихотворении Полонского «У храма». Движение души к Богу здесь передается как «волочение креста» «хилого и убогого странника». Толпа отбрасывает его к решетке, у которой он замирает, как «нищий-старик». Духовная _______
В стихотворении Полонского земной и небесный миры соединяет крест храма, вместо ангелов в свете, исходящем от креста, вьются птицы. Соединение миров показано здесь через багряный или пурпурный свет, которым горит крест на храме. Е. Н. Трубецкой писал об огненной вспышке храмовой архитектуры:
В этом всеобщем стремлении ко кресту все ищет пламени, все подражает его форме, все заостряется в постепенном восхождении. Но, только достигнув точки действительного соприкосновения двух миров, у подножия креста, этот огненное искание вспыхивает ярким пламенем и приобщается к золоту небес16.
Так же исследователь объясняет пурпурный цвет на иконе:
Фаворский свет, соприкасаясь с окружающим мраком, переходит не в синеву, а в пурпур17.
В иконописи «красный цвет обычно символизировал Небесную Действительность, Воскресение, Второе Пришествие»18.
Последняя часть стихотворения содержит символику Откровения Иоанна Богослова:
И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель (Откр. 19:6).
Напоминание о Царствии Божием у Полонского передается через образ «вековечных небес» и леса, символизирующего Древо жизни рая:
-
17 Там же. С. 256.
-
18 Овчинников А. Н. Символика красного цвета: [Электронный ресурс]: Режим доступа: http/ /www .russia - hc.ru/rus/culture/simvkras .cfm
Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами (Откр. 22:14).
Крест, на котором был распят Спаситель, становится Древом жизни. Так стихотворение Полонского становится отзвуком пасхального тропаря «Смертию смерть поправ».
Интонационно-мелодический рисунок всего этого стихотворения однообразен, он напоминает плеск волны о берег, только в последней (третьей) части в трех местах он нарушается и исчезает внутренняя цезура в трехстишиях:
Крест на храме сиял, // Он один затмевал // Сотни наших лучей,
Над церковной главой // Вековечных небес // Расстилалася высь,
...Перелетных лучей, // И невидимых крыл, // И неведомых сил.
Безжизненная ровность и сверхъестественная легкость поэтического голоса в этих трехстишиях свидетельствует о царстве покоя Божия, в котором оказывается душа. Строки стихотворения Полонского содержательно и пневмато-логически напоминают Иисусову молитву:
Господи, Иисусе Христе, // Сыне Божий, // помилуй мя, грешного.
Важна содержательная роль в этих строках тире (оно встречается дважды) и многоточия (один раз). Тире выражает тот «взмах крыльев, который поднимает душу над землей», по свидетельству В. С. Соловьева19, а многоточие является кульминацией, которая передает тишину покоя. Жизнь во Христе становится вхождением в духовный покой и неподвижностью в Боге. О подобном пути обретения покоя говорится в Евангелии от Матфея:
Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим (Мф. 11:29).
Но покой горний не противоречит покою дольнему. В стихотворении «Дорога» жажда покоя показана Полонским как стремление обрести свое место в жизни и выполнить свое предназначение: _______ тональность сюжета покоя в стихотворении «Сны»20. Между тем это произведение строится как пародия на стереотипы романтического мироощущения: в первой части заявлена тема поэта и толпы, во второй — любви, в третьей — свободы, в четвертой — тема поэта и власти, в пятой рисуется апокалиптическая картина конца света.
Отчуждение героя от внешнего мира приводит его к пограничному состоянию, когда реальность и иллюзия меняются местами. Ироническая интонация начинает звучать в заключительной строфе первой части, когда после призыва «когда-то проснется душа» появляется иронизм «проснулся», который представляет собой «стилистическую транспозицию от высокого к обыденному», в нем выражается ирония как «языковая мистификация, преднамеренное несоответствие буквального и подразумеваемого смысла слова»21. Но особенно обнажается ирония в третьей части, где происходит повтор слова «как будто». По мнению Н. Д. Арутюновой, маркировка слова «как будто» придает модальную неопределенность высказыванию и часто является признаком пародирования22:
Уж утро! — но Боже мой, где я? Заснул я как будто в тюрьме, Проснулся как будто свободный, — В своем ли я нынче уме?
В четвертую часть поэт вводит комический диалог царя и царицы, который травестирует тему романтического одиночества и безумства. В этом разговоре живо передаются интонация волеизъявления царя («Я лишу его наследства», _______ русского языка // Язык. Культура. Гуманитарное знание. Научное наследие Г. О. Винокура и современность. М., 1999. С. 143—149.
22 Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1998. С. 848.
383 «Но... дозволим Мы за это, так и быть, — Нашей фрейлине с безумцем Одиночество делить») и жалостливая интонация царицы («Будет, бедненький, по царству Он скитаться, как поэт»). Фамильярно-разговорная речь вступает в противоречие с возвышенной поэтической лексикой и снижает ее. Вместе с тем лирический герой отстаивает свою веру в любовь и красоту, в его голосе звучит интонация противоречия:
Но ужель она, чьи очи
Светят раем, — так горда, Что отвергнутого вами Не полюбит никогда?..
Пятая часть стихотворения рисует картину похорон месяца-«мертвеца», после которых наступает «непроглядный мрак». Покой здесь показан как ужас небытия, из которого герой пытается выйти, обратившись к чувственному, телесному. Однако молчание женщины, которая отдается его ласкам, воспринимается им как прекращение жизни, деятельности, погружение в мир мертвых23, а его душа требует диалога с душой, а не телом. Поэтому возникает неожиданный поворот сюжета:
Я помню, во сне, как безумец, Готов был ее укусить!!
Исчезновение женщины приводит к полному одиночеству, которое тут же обыгрывается:
...И тьму обнимал я, и тьма обнимала меня.
Пробуждение в финале стихотворения от страшного сна становится метафорой возрождения души, ее возвращения к людям, жизни: сердце взыграло, «как будто впервые увидело свет».
Стихотворение Полонского «Сны» перекликается с рассказом Ф. М. Достоевского «Сон смешного человека». В этих произведениях (а также в стихотворении Полонского «Плохой мертвец») показаны похороны и воскресение, что, по мнению М. Бахтина, соотносится с карнавальным смехом, который помогает герою умереть, чтобы обновиться24. Залогом возрождения и преображения человека оказывается _______
Список литературы Движение к покою в лирике Я. П. Полонского
- Бельский Л. Я. П. Полонский. Тула, 1901. С. 3.
- Винке Ф. О происхождении и структуре глаголической азбуки//Литературная учеба. 1996. № 3. С. 121.
- Котельников В. А. «Покой» в религиозно-философском и художественных контекстах//Русская литература. 1994. № 1. С. 4.
- Святой Антоний Великий. Духовные наставления. М., 1998. С. 63.
- Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 1994. С. 251.
- Овчинников А. Н. Символика белого цвета: [Электронный ресурс]: Режим доступа: http//www.russia-hc.ru/rus/culture/simbel/simbel.cfm
- Гаспаров Б. П. Заметки о Пушкине//Новое литературное обозрение. 2001. № 52. С. 123.
- Топоров В. Н. Пространство культуры и встречи в нем//Восток-Запад.: Исследования. Переводы. Публикации. М., 1989. С. 7.
- Ермилова Е. В. «Самый трудный из наших поэтов»//Литературная учеба. 1979. № 6. С. 171-179.
- Зеньковский В. В. Основы христианской философии. М., 1992. С. 225.
- Аверинцев С. С. Гавриил//Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 1991. Т. 1. С. 260.
- Данилова И. Е. Соотношение слова и изображения в византийской живописи // Данилова И. Е. Искусство Средних веков и Возрождения. Работы разных лет. М., 1984: [Электронный ресурс]: Режим доступа: http//www.iconaantika.spb/ru/danilova.html
- Творения преподобного Максима Исповедника. Кн. 1. М., 1993. С. 221.
- Овчинников А. Н. Символика красного цвета: [Электронный ресурс]: Режим доступа: http//www.russia-hc.ru/rus/culture/simvkras.cfm
- Соловьев В. С. Особенность творчества Полонского и музыкальность и живописность его произведений//Я. П. Полонский. Его жизнь и сочинения: Сб. историко-литературных статей/Сост. В. Покровский. М., 1906. С. 289.
- Ермакова О. П. Типы вербалированной иронии в разных сферах русского языка//Язык. Культура. Гуманитарное знание. Научное наследие Г. О. Винокура и современность. М., 1999. С. 143-149.
- Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1998. С. 848.
- Толстая С. М. Звуковой код традиционной народной культуры//Мир звучащий и молчащий: семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. М., 1999. С. 10.
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 146-147.