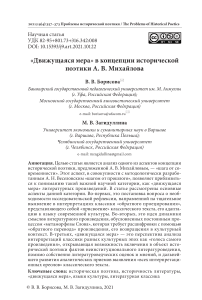"Движущаяся мера" в концепции исторической поэтики А. В. Михайлова
Автор: Борисова Валентина Васильевна, Загидуллина Марина Викторовна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является анализ одного из аспектов концепции исторической поэтики, предложенной А. В. Михайловым, - «шага от современности». Этот аспект, в совокупности с методологически разработанным А. Н. Веселовским «шагом от прошлого», позволяет приблизиться к пониманию такой важной научной категории, как «движущаяся мера» литературных произведений. В статье рассмотрены основные аспекты данной категории. Во-первых, это постановка вопроса о необходимости исследовательской рефлексии, направленной на тщательное выявление в интерпретациях классики «обратного проецирования», представляющего собой «присвоение» классического текста, его адаптацию к языку современной культуры. Во-вторых, это идея динамики смыслов литературного произведения, обусловленных постоянным процессом «метаморфозы Слова», которая требует расшифровки с помощью «обратного перевода» произведения, его возвращения в культурный контекст. В-третьих, «движущаяся мера» - это перспектива анализа интерпретаций классики разных культурных эпох как «голоса самого произведения», открывающая возможность включения в объект исторической поэтики фактов неинституционального литературоведения, помимо собственно литературоведческих оценок и мнений, и дальнейшего развития аналитических приемов выявления «всех интерпретационных ореолов» классического текста.
Историческая поэтика, историчность литературы, движущаяся мера, языки культуры, литературная классика
Короткий адрес: https://sciup.org/147236186
IDR: 147236186 | УДК: 82-95+801.73+316.342:008 | DOI: 10.15393/j9.art.2021.10122
Текст научной статьи "Движущаяся мера" в концепции исторической поэтики А. В. Михайлова
Н еоспорим вклад А. Н. Веселовского в формирование научного направления исторической поэтики, ее обоснование в ретроспективе связи времен, уходящей в глубь веков, проявляющейся в жанрах, мотивах художественных произведений, в метаморфозах Слова (см. об этом: [Бройтман]). Но полнота исторической поэтики как методологии исследования культуры и литературы предопределяется также «шагом из современности» — той перспективой исторической поэтики, которую обозначил в свое время А. В. Михайлов (см. об этом: [Данилина]). До сих пор это недостаточно исследованная и освоенная часть наследия ученого.
На наш взгляд, в классическом тексте при встрече ретроспективы и перспективы происходит рождение «движущейся меры» произведения как важного научного принципа подвижности смыслов (при сохранении их ядра). Как справедливо отмечал А. В. Михайлов, «классика — это то прочное, что постоянно дрожит под натиском истории, но что точно так же все время должно обновляться и впитывать в себя новый опыт» [Михайлов, 2000: 19].
Аналогичным образом, рассуждая о проблемах исторической поэтики русской литературы, Д. С. Лихачев писал: «“Вечность” старых произведений в новое время состоит в “вечной” изменяемости их содержания и “вечной” общественной актуальности для нового читателя. Восприятие произведения оказывается процессом <…>. Любое литературное произведение не представляет собой законченного и застывшего в своей законченности “материализованного” факта. Оно является совокупностью различных процессов — системой, в которой постоянно происходят разнообразные изменения» [Лихачев: 505].
При этом важнейшим аналитическим действием в рамках исторической поэтики А. В. Михайлов называл «обратный перевод» как ее основной метод: культура меняет свои языки от одной эпохи к другой (контекст Бытия задает новые ценностные параметры), и одновременно меняются способы и глубина их осмысления. Новый язык культуры требует (в горизонтальном — национальном — смысле и / или вертикальном — в диахронии) обратного перевода — отказа от «простого присвоения» культурного явления (его адаптации к тому или иному культурному языку) в пользу поиска и прояснения той самой движущей меры, которая и есть основа прочности классики. Поэтому любые факты осмысления искусства бесценны: в них отражается эта мера, проясняются смыслы, предопределяющие тождественность произведения себе самому, которая сохраняется в движении эпох.
-
А. В. Михайлов последовательно развивал идеи А. Н. Веселовского, полагавшего, что «старина» есть результат работы «синтеза времени» — «великого упростителя», который сокращает сложность явлений, сводя их к ясным линиям, создающим эффект «схематизма и повторяемости» [Веселовский: 301]. Однако, по мысли А. Н. Веселовского, «историческая память может и ошибаться; в таких случаях новое, подлежащее наблюдению, является мерилом старому, пережитому вне нашего опыта. Прочные результаты исследования в области общественных, стало быть и историко-литературных, явлений получаются таким именно путем. Современность слишком спутана, слишком нас волнует, чтобы мы могли разобраться в ней цельно и спокойно, отыскивая ее законы; к старине мы хладнокровнее и невольно ищем в ней уроков, которым не следуем, обобщений, к которым манит ее видимая законченность, хотя сами мы живем в ней наполовину. Это и дает нам право голоса и проверки» [Веселовский: 42].
-
В. Н. Захаров, отмечая, что современные исследования в русле исторической поэтики во многом определяются «инерцией начального ускорения», справедливо подчеркивает, что по сути «историческая поэтика принципиально незаверши-ма» [Захаров, 2018: 11], то есть вопрос заключается не в накоплении все большего числа «индуктивных исследований» (хотя
это важный момент развития и укрепления позиций научного направления), а в применении к литературным явлениям в частности и литературному процессу в целом историчного подхода.
Он поставлен в центр проекта исторической поэтики, предложенного А. В. Михайловым: «Сущность чего бы то ни было не положена заранее — раз и навсегда, чтобы затем находиться среди прежних и новонарождающихся вещей и явлений, но сущность только осуществляется: она не замкнется, пока не замкнулась сама история» [Михайлов, 2000: 34]. Вместе с другими авторами значимого для развития исторической поэтики научного манифеста «Категории поэтики в смене литературных эпох» ученый выдвинул идею о подвижном характере всех категорий поэтики, которые не просто «впитывают» различные элементы общей амальгамы идей, определяющей «лик» эпохи, в которой эти категории функционируют, но включаются в разные системы отношений, фактически отражающие художественное сознание эпохи, его основания и ракурсы, отличающиеся от таковых в иные периоды времени. Вместе с тем подвижность категорий исторической поэтики приводит к тому, что они все время «протягивают» через разные времена и культурные эпохи свою константу, что (во многом) и предопределяет отсутствие жестких границ между разными типами художественного сознания [Аверинцев и др.: 3].
Многократно возвращаясь к этой идее, А. В. Михайлов использовал образ «прочерченности» феноменов литературы множеством смысловых линий, а также собственно линейности (а не законченной «точечности») любого литературного явления, «будь то отдельное произведение, творчество писателя, литературные процессы» [Михайлов, 2006: 63].
Идея линейности в противовес идее точечности у А. В. Михайлова представляет собой концепт неостановимой процес-суальности литературных произведений. Само произведение имеет свое начало в момент возникновения, создания, и у этого момента есть четкий хронотоп — время, место, особенности стиля автора, творческой ситуации, ясные характеристики историко-культурного, социального, политического контекста.
Однако литературное произведение одновременно продолжает линии жанра, а также других категорий, переплетающихся в его феноменальности и идущих из глубины времен и традиции (даже если автор вступает в сознательный конфликт с традицией, она запечатлевается в художественном диалоге-дуэли с нею), и в то же время начинает «впитывать» новые прочтения, интерпретации, которые в определенном смысле помогают проникнуть в суть и изначальный замысел произведения, которое «находится не только “там”, но и “здесь”, как живой фактор настоящего» [Михайлов, 2006: 63].
Так, перспектива современности стала у А. В. Михайлова «вторым крылом» исторической поэтики. Центральный пункт теоретических изысканий ученого — одновременное утверждение неизбежности привнесения «нового» в интерпретацию литературного произведения и необходимости критической рефлексии по этому поводу. Развивая концепцию процессу-альности смыслов произведения, А. В. Михайлов критиковал позицию А. Н. Веселовского за склонность к «статичным» решениям (например, поиску данного раз и навсегда в «старину» набора схем, формул, «готовых слов», спрятанных в составе любого более позднего произведения литературы, «новизна» которого неоправданно устанавливается современниками из-за недостатка знаний о прошлом). Называя такой подход «границей историзма», А. В. Михайлов подчеркивал: «Первый шаг оказался весьма неравноправным со вторым, который был для А. Н. Веселовского лишь подсобным. Но если мы полагаем (и, кажется, небезосновательно), что литература, словесность переживает исторически самые существенные внутренние перемены, преобразуется (да и не только внутренне, а и внешне — по своему объему), то первый шаг, перспективу от старины, требуется дополнить столь же основательным и веским шагом от современности» [Михайлов, 2006: 47].
Анализируя эту часть теоретического наследия А. В. Михайлова, Г. И. Данилина, например, сосредоточивается преимущественно на процедурах очищения исследовательской точки зрения от постоянного и напряженного рефлективного поиска следов «наносных» оценок в интерпретацию литературного произведения [Данилина]. Однако, на наш взгляд, здесь в стороне остается такая важная часть проекта развития исторической поэтики в наследии А. В. Михайлова, как идея включения в исследовательский материал, ведущий к смыслам произведения, различных мнений, оценок и интерпретаций как «зеркал», отражающих скрытые смыслы литературного текста.
Именно эта часть рассуждений ученого представляется нам важным шагом в развитии метода исторической поэтики, поскольку возникает возможность толковать смыслы литературного произведения именно как «движущуюся меру». Любые интерпретации в данном случае оказываются частью самого произведения, порождаясь его смыслами. Отсюда задача исследователя — идти обратно к произведению, нейтрализуя процессы «обратного проецирования» и производя сложнейшую и важнейшую работу «обратного перевода». В этом плане позиция А. В. Михайлова принципиально отличается от рецептивной эстетики и историко-функционального подхода.
Рецептивная эстетика, обращаясь к фактам читательской или исследовательской рефлексии художественных произведений, во многом сосредоточена на самих носителях интерпретаций (читателях, прежде всего), а произведение рассматривается как коммуникативное событие встречи текста с сознанием того, кто воспринимает этот текст. Поэтому существенная часть рецептивной эстетики — категория читателя. Определенным результатом развития и переработки рецептивно-эстетического подхода стал историко-функциональный подход, в рамках которого основное внимание направлено на различные формы бытования литературных текстов в последующих культурных эпохах (это, например, театральные постановки, экранизации и т. п.; см.: [Русская литература…]). Историко-функциональный подход принципиально сосредоточен на функциональной стороне художественной литературы, его основной объект — не литература, но ее роль, ее прагматика, которая характеризуется социально и культурно обусловленными чертами, присущими каждой конкретной эпохе (см.: [Кедрова], [Осьмаков], [Художественное произведение…], [Художественное творчество…]).
Отличие исторической поэтики как метода как раз заключается в том, что она полностью сосредоточена на самом художественном произведении. При этом все факты рецепции, интерпретации, трансмедиальных «переводов» литературы на языки других искусств (см.: [Ильин]) попадают в поле зрения исследователя, стремящегося к подлинной историчности своего подхода, исключительно как факты материализации голоса самого произведения . Но именно сквозь эти «переводы» исследователю открывается возможность воспринять произведение в его подлинной историчности.
Таким образом, предложенный А. В. Михайловым «обратный перевод» обретает совершенно конкретное методологическое основание и может восприниматься не как метафора, но как операция, прием анализа, применяемый к вполне определенному материалу — современным интерпретациям литературных произведений, в первую очередь — классических. Не читательская реакция сама по себе и не функция литературы в конкретный исторический период времени, но смыслы самого текста в том виде, как они были сконструированы в момент создания, становятся объектом исторической поэтики, признающей, что историчность и есть «движущаяся мера», или, иными словами, встреча ретроспективы (из каких культур и традиций вырастает текст) и перспективы (как слово текста переживает метаморфозы в движении времени, чтобы раскрыть свои глубинные смыслы).
Чтобы такие метаморфозы увидеть, исследователю предстоит работа очищения интерпретаций, открывающих актуальные узлы смыслов произведения. При этом сами читатели, исследователи, критики, политики или деятели искусства, вовлеченные в процесс интерпретации текстов на языке своей эпохи, либо сами метаморфозы художественных текстов (экранизации, ремейки, коллажи и т. п.) — есть только «медиа» (в значении «носители») для исследователя, применяющего метод исторической поэтики: он идет к смыслам текста сквозь этот материал, не только отрицая и критикуя некоторые позиции и интерпретации, но проводя работу обратного очищения текста как голоса (провокатора или стимула) этих интерпретаций.
Идея возвращения к исходному классическому тексту «сквозь» исторически опосредованный голос материала, представленного различными интерпретациями, мнениями, разборами, «переводами», несомненно, плодотворна и открывает перед исторической поэтикой новые горизонты как перед системной отраслью знания, обладающей своим собственным методом, отличным от других подходов. Однако практическое применение такого подхода связано с существенными сложностями.
История литературоведения, изучаемая как часть истории науки, предстает при таком подходе именно как артикуляция мнений и позиций, направленных на приближение к смыслу текста. Они требуют, во-первых, «обратного перевода», во-вторых, становятся импульсом к самокритичному анализу исследовательской позиции. То же самое можно сказать и о других культурных феноменах, например читательских откликах (и вообще социологии чтения классических произведений), о присвоении литературной классики в политическом дискурсе, о художественных «реинкарнациях» произведений прошлого и об их множественных «переводах» на языки других искусств и культурных практик — балета, танца, музыки, театра, кино, анимации, телепередач, культурно-массовых проектов и шоу и т. п. Наряду с институционально оформленным литературоведением (статьями, монографиями, докладами на научных конференциях, университетскими лекциями), в сегодняшнем информационном пространстве активно функционирует любительское, обретающее свои специфичные жанры, отличные от академических филологических форм: это посты блогеров, сюжеты видеохостинга YouTube, списки книг, рекомендации энтузиастов-читателей, каналы в Instagram и Telegram, а также широкое комментирование сообщений и постов на литературную тему, — и все эти проявления неинституционального «слова о литературе» в современной блогосфере [Гун] тоже могут быть рассмотрены в русле исторической «линии произведения» [Михайлов, 2000: 518], где важно провести «обратный перевод» с языка современной культуры на язык «окружающей произведение истории», тем самым фиксируя «сквозь современность»
исторический горизонт конкретного произведения или творчества конкретного писателя [Захаров, 2021].
Однако этот обширный материал нечасто попадает в поле внимания литературоведов, хотя, к примеру, за круглым столом на VIII «Летних чтениях в Даровом» (27 августа 2021 г.) бурно обсуждался вопрос «Достоевский в Интернете». В результате участники дискуссии, в целом признав существование интернет-достоевсковедения, отметили разные виды массового литературоведения, активно функционирующего в сети, а также обсудили возможности отстаивания научной точки зрения как отпора «поп-достоевистам».
Показательный пример — выступления С. А. Кибальника, обращающего внимание на явления современной культуры, которые занимают видное место в ее медийном пространстве. В том числе это исследовательские и литературно-художественные реинтерпретации творчества Достоевского, которые рассматриваются в контексте споров в литературной (печатной и сетевой) критике, социальных сетях и других средствах массовой коммуникации1. На наш взгляд, в рамках исторической поэтики установление «движущейся меры» произведений Достоевского, актуализирующихся в современном медиапространстве, тоже может стать важным исследовательским вопросом.
Сегодня в литературоведческих сегментах Интернета представлены разнообразные аксиологические модели жизни и творчества писателя-классика. Многие из них стали традиционными, приобрели устойчивость, превратившись в «штамп» или «канон» восприятия и оценки автора «великого пятикнижия» (cм. об этом: [Шаулов: 192]). Тем не менее, актуализация жизни и творчества писателя в ХХI в. продолжается. Этот процесс нуждается в критическом осмыслении, поскольку в неинституциональном литературоведении наблюдается «многоголосие», открытое пользователям во всем своем разнообразии: это и подборки о Достоевском как «черносотенце и педофиле», составленные А. Г. Невзоровым, и развернутый, обстоятельный ответ ему С. Рублева, главного редактора сетевого издания «Федор Михайлович Достоевский. Антология жизни и творчества»2, и резкие высказывания Д. Л. Быкова о Достоевском. Популярный блогер заявляет, что «Федор Михайлович — ужасное явление русской мысли <…>. Большего вреда, чем он, не нанес человечеству в XIX веке никто»3. По мысли Д. Л. Быкова, подпольный человек Достоевского — «несомненный автопортрет <…>. …подполье есть в каждом; вопрос лишь в том, как к нему относиться. Некоторые, зная за собой подобные крайности, стыдливо о них умалчивали либо горячо их стыдились; Достоевский превратил их в культ и сделал национальною добродетелью»4.
Между тем еще А. П. Скафтымов в статье «“Записки из подполья” среди публицистики Достоевского», написанной в 1926 г. и опубликованной в 1929 г., а затем вошедшей с позднейшими авторскими поправками в его книгу «Нравственные искания русских писателей. Статьи и исследования о русских классиках», дал обзор исследовательских мнений В. Л. Комаровича, А. С. Долинина, Л. П. Гроссмана, восходящих к работе Льва Шестова «Преодоления самоочевидностей» о «подпольном человеке» как «автопортрете» писателя, и назвал такую позицию «очевидным недоразумением», показав художественную сложность этого произведения [Скафтымов: 88–133].
Другой видный исследователь творчества Достоевского — Р. Г. Назиров — в 1970-е гг. также напомнил, что ошибочное отождествление рассказчика в «Записках из подполья» с автором началось с русской демократической критики. Впоследствии философы-экзистенциалисты, высоко оценив эту повесть Достоевского, назвали ее первую часть «наилучшим введением в экзистенциализм, которое когда-либо было написано»1) [Kaufmann: 14]. Соглашаясь с подобным заключением, Р. Г. Назиров подчеркивал: «По сладострастию, с которым подпольный человек предается вивисекции собственной души, по космическому размаху своих экстраполяций, по склонности к подчеркиванию грязных сторон жизни он вполне может быть назван экзистенциалистом. Но сам Достоевский — не подпольный человек, а художник, написавший лучший в мировой литературе портрет экзистенциалиста. Портрет, но не автопортрет!». И это, добавлял исследователь, подтверждается скрупулезным нарративным анализом текста повести, в которой большое значение приобретает осуществляемая автором «сюжетная критика» слов и поступков героя [Назиров: 52].
Так, Д. Л. Быков, игнорируя очевидные научные аксиомы, реанимирует «старые мифы о русской классике» [Кибаль-ник, 2021: 54]. В данном случае «новое» действительно «становится мерилом старого». Термин А. Н. Веселовского «мерило» (как и предложенное А. В. Михайловым выражение «движущаяся мера») понимается здесь в прямом смысле — как показатель значимости определенных смыслов, заложенных в произведении, их актуализация. На наш взгляд, ряд идей А. В. Михайлова имеет важное значение для дальнейшего развития исторической поэтики как формы реализации принципа историчности в исследовании литературных феноменов. Это, во-первых, последовательное развитие ученым ХХ в. идеи о «шаге от современности» как перспективе исторической поэтики; во-вторых, учет А. В. Михайловым принципиальной незавершенности литературного произведения в связи с постоянной метаморфозой Слова (текста, произведения) как части меняющегося культурного пространства; и, наконец, в-третьих, требование актуализации смыслов художественного текста как звучания голоса самого произведения.
На основе этого предлагается рассматривать современные интерпретации классики с учетом конкретных методов и процедур «обратного перевода», «обратного проецирования», как предлагал А. В. Михайлов. Думается, эта работа сродни «индуктивному методу» А. Н. Веселовского, реализованному в исследованиях «шага» литературы «от прошлого».
Список литературы "Движущаяся мера" в концепции исторической поэтики А. В. Михайлова
- Аверинцев С. С., Андреев М. Л., Гаспаров М. Л., Гринцер П. А., Михайлов А. В. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания: сб. ст. М.: Наследие, 1994. С. 3-38.
- Бройтман С. Н. Историческая поэтика. М.: Академия, 2004. 352 с.
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М.: Высш. шк., 1989. 405 с.
- Гун Г. Е. Институциональное и внеинституциональное измерения художественной культуры // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 8 (14): в 4 ч. Ч. 6. C. 45-48.
- Данилина Г. И. Принцип историчности: концепция исторической поэтики А. В. Михайлова: дис. ... д-ра филол. наук. М.: РГГУ, 2009. 491 с.
- Захаров В. Н. Снова о перспективах изучения исторической поэтики // Проблемы исторической поэтики. 2018. Т. 16. № 1. С. 7-16 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1522935865.pdf (10.06.2021). DOI: 10.15393/j9.art.2018.5021
- Захаров В. Н. Актуальность Достоевского // Неизвестный Достоевский. 2021. Т. 8. № 1. С. 5-20 [Электронный ресурс]. URL: https:// unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/ 1617397021.pdf (10.06.2021). DOI: 10.15393/j10.art.2021.5321
- Ильин И. П. Некоторые концепции искусства постмодернизма в современных зарубежных исследованиях. М., 1988. 28 с.
- Кедрова М. М. Изучение художественного восприятия в СССР // Художественное восприятие. Основные термины и понятия: словарь-справочник. Тверь: ТГУ 1991. С. 74-77.
- Кибальник С. А. Достоевский и Россия (в прошлом, настоящем и будущем) // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. 2021. № 3 (105). С. 51-58.
- Кибальник С. А., Кузнецова О. А., Муренина Е. К., Оробий С. П., Оте-ва К. Н. Достоевский в медийном пространстве современной русской культуры / отв. ред. С. А. Кибальник. СПб.: ИД «Петрополис», 2021. 304 с.
- Лихачев Д. С. Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение и другие работы. СПб.: Алетейя, 2001. 566 с.
- Михайлов А. В. Обратный перевод. М.: Языки русской культуры, 2000. 855 с.
- Михайлов A. B. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. 560 с. (Серия «Письмена времени».)
- Назиров Р. Г. Творческие принципы Достоевского. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1982. 160 с.
- Осьмаков Н. В. Историко-функциональное исследование произведений художественной литературы // Русская литература в историко-функ-циональном освещении. М.: Наука, 1979. С. 5-41.
- Русская литература в историко-функциональном освещении / Н. В. Ось-маков (отв. ред.) и др. М.: Наука, 1979. 303 с.
- Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. Статьи и исследования о русских классиках / сост. Е. И. Покусаева, вступ. ст. Е. И. Покусаева и А. А. Жук. М.: Худож. лит., 1972. 543 с.
- Художественное произведение и его читатель: межвуз. темат. сб. / Калинин. гос. ун-т; отв. ред. Г. Н. Ищук. Калинин: КГУ, 1980. 182 с.
- Художественное творчество и проблемы восприятия: межвуз. темат. сб. / Калинин. гос. ун-т; отв. ред. Г. Н. Ищук. Калинин: КГУ, 1978. 158 с.
- Шаулов С. С. Мифологизация биографического нарратива в дореволюционных энциклопедических статьях о Достоевском // Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17. № 2. С. 192-213 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1562073365.pdf (10.06.2021). DOI: 10.15393/j9.art.2019.6562
- Kaufmann W. (ed.). Existentialism from Dostoevsky to Sartre. New York, Meridian Books, 1957. 321 p.