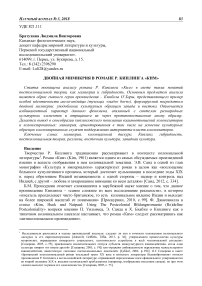Двойная мимикрия в романе Р. Киплинга "Ким"
Автор: Братухина Людмила Викторовна
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Литературоведческие исследования
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу романа Р. Киплинга «Ким» в свете таких понятий постколониальной теории, как мимикрия и гибридность. Основным предметом анализа является образ главного героя произведения - Кимбола О'Хары, представляющего пример особой идентичности англо-индийца (туземца, «native born»), формируемой посредством двойной мимикрии: уподобление культурным образцам запада и востока. Отмечается амбивалентный характер данного феномена, связанный с синтезом разнородных культурных элементов и отрицанием их через противопоставление иному образцу. Делается вывод о своеобразии киплинговского понимания взаимоотношений колонизаторов и колонизированных: мимикрия, ориентированная в том числе на усвоение культурных образцов колонизированных служит поддержанию авторитета власти колонизаторов.
Мимикрия, колониальный дискурс, киплинг, гибридность, постколониальная теория, различие, восточная культура, западная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/147229794
IDR: 147229794 | УДК: 821.111
Текст научной статьи Двойная мимикрия в романе Р. Киплинга "Ким"
Творчество Р. Киплинга традиционно рассматривают в контексте колониальной литературы1. Роман «Ким» (Kim, 1901) является одним из самых обсуждаемых произведений именно в аспекте отображения в нем колониальной тематики. Э.В. Саид в одной из глав монографии «Культура и империализм» характеризует роман в целом как «воплощение большого кумулятивного процесса, который достигает кульминации в последние годы XIX в. перед обретением Индией независимости: с одной стороны – надзор и контроль над Индией, с другой – любовь и зачарованное внимание ко всем деталям» [Саид, 2012, с. 334].
Б.М. Проскурнин отмечает сложившееся в зарубежной науке мнение о том, что данное произведение Киплинга – «самое сложное из всех исследование реальности», в котором «писатель преодолевает чисто британское, то есть колониальное видение Индии и выходит на более широкий масштаб ее понимания» [Проскурнин, 2010, с. 99]. Ф. Джассавалла в статье «Kim, Huck and Naipaul: Using The Postcolonial Bildungsromanto (Re)define Postcoloniality» вопреки мнению П. Уильямса, Э. Саида и Х. Бхабхи о Киплинге как о типичном колониальном писателе настаивает, что роман «Ким» следует рассматривать как «антиколониальное произведение».
При этом предполагается, что описание внешних событий колонизации в произведении имеет меньшее значение, чем воспитание героя как процесс формирования «индийского самосознания» (self awareness of Indianness) [Jussawalla, 1997, p. 27]. В настоящей работе предметом анализа становится один из аспектов этого процесса воспитания-формирования туземной идентичности: феномен мимикрии, свойственный колониальной эпохе.
Термин мимикрия артикулируется в постколониальных исследованиях и предстает как один из основных, обозначая «амбивалентный характер отношений между колонизатором и колонизированным» [Сидорова, 2005, c. 256]. Х. Бхабха (традиционно упоминаемый как ведущий теоретик, интерпретировавший данное понятие в эссе of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse ) определяет мимикрию как «форму различия (form of difference)», воплощающуюся в формуле «почти такой же, но не совсем» (almost the same but not quite) [Bhabha, 1984, p. 130].
Предполагается, что усвоение колонизируемым субъектом культурных привычек, ценностей, институтов колонизаторов (что называется последними в качестве вполне осознанной цели) не становится стопроцентной имитацией, точно воспроизводящей предлагаемый культурный образец.
Вместо этого «результатом является "размытая копия" колонизатора, которая может быть довольно угрожающей» [Ashcroft, Griffiths, Tiffin, 2013, p. 155]. Именно Бхабха обосновывает идею о том, что мимикрия является «одновременно сходством и угрозой» [Bhabha, 1984, p. 127], поскольку предлагает идентичность, отличающуюся от колонизатора, что нарушает авторитет колониальной власти.
Как заключают авторы монографии «Postcolonial studies: the key concepts», «мимикрия находит трещину в уверенности колониального доминирования», связанную с неопределенностью «в управлении поведением колонизируемого» [Ashcroft, Griffiths, Tiffin, 2013, p. 155].
Таким образом, мимикрия оказывается тесно связана с дестабилизацией колониального дискурса. Также необходимо отметить тесную связь этого понятия с понятием гибридности: амбивалентность отношений между колонизаторами и колонизируемыми предполагает «взаимозависимость и взаимное построение их идентичности» [Ashcroft, Griffiths, Tiffin, 2013, p. 136] в «промежуточном» пространстве (the ‘in-between’ space), возникающем в зоне контакта в процессе колонизации.
Целью настоящей статьи является анализ репрезентации мимикрии как процесса и результата в романе Р. Киплинга «Ким», представляющего собой произведение колониальной эпохи, в котором писатель изображает нестандартный вариант культурного уподобления. В частности предметом нашего исследования становится двунаправленный характер этого уподобления: усвоение европейцем культурных особенностей восточного человека и наоборот.
Основная часть
Отметим, что в рассматриваемом романе Р. Киплинга встречается вполне традиционный в отношении колониальной мимикрии персонаж – Хурри Чендер Мукерджи или Хурри-бабу, бенгалец на службе английской разведки, магистр философии Калькуттского университета. Хурри-бабу, сам разговаривая по-английски, употребляя «невообразимые обороты» речи, наставляет главного героя – Кима – в духе необходимости овладения европейскими языками, сетует на собственное несовершенное знание французского.
Из слов Хурри-бабу о его пристрастии к пьесам Шекспира «Король Лир» и «Юлий Цезарь», сочинениям Г. Спенсера, а также из проскальзывающих в его речи латинских выражений и упоминаний античного божества, Юпитера, можно сделать заключение, что перед нами пример восточного жителя, охотно осваивающего европейские культурные образцы.
Образ европейски ориентированного человека завершают такие штрихи, как желание Хурри-бабу стать членом Королевского географического общества, сопоставляемое в романе с аналогичной мечтой англичанина, полковника Крейтона1, и искренняя приверженность бенгальца интересам Великобритании в Большой игре. Любопытны высказывания противников англичан – представителей России и Франции – о данном персонаже: «He is like the nightmare of a Viennese courier… He represents in petto India in transition – the monstrous hybridism of East and West» [Kipling, 2014].
Нарочитость европейских культурных реалий в образе героя, придающая ему комический характер2, говорит о том, что бенгалец, безусловно, являет пример гибридной идентичности, сочетающей как аутентично национальное, так и привнесенное европейское, выстраиваемой согласно формуле Х. Бхабхи «почти такой же, но не совсем».
Главный герой романа – Кимбол О’Хара – с первых страниц показан как «сахиб», уподобившийся местным жителям: «Though he was burned black as any native; though he spoke the vernacular by preference, and his mothertongue in a clipped uncertain sing-song; though he consorted on terms of perfect equality with the small boys of the bazar; Kim was white- a poor white of the very poorest» [Kipling, 2014].
Собственно в готовности Кима становиться похожим на выходцев из различных культур, представляющих население колониальной Индии, и состоит уникальность героя. По мнению Е.П. Зыковой, Ким «узнает мир современной Индии в максимально возможной для одного человека полноте именно потому, что он научился быть Протеем, менять свои обличья, дающие ему доступ в разные сферы жизни», что представляет собой художественное воплощение неоромантического типа личности, «которая свободно вращается в разных социальных мирах и для которой жизнь становится увлекательной игрой» [Зыкова, 1996, с. 149].
Свои способности герой развивает уже специально под руководством одного из наставников: «Lurgan Sahib had a hawk’s eye to detect the least flaw in the make-up; and lying on a worn teak-wood couch, would explain by the half-hour together how such and such a caste talked, or walked, or coughed, or spat, or sneezed, and, since “hows” matter little in this world, the “why” of everything <…> a demon in Kim woke up and sang with joy as he put on the changing dresses, and changed speech and gesture there with» [Kipling, 2014].
Это можно назвать внешним преображением, основанным на конвертировании одной культуры в другую, уподобляющим европейца индийцам-азиатам. Внутренняя же мимикрия героя более сложна. Ким, рожденный и выросший в Индии, естественно усваивает язык, обычаи, бытовые привычки и манеру общения местных жителей, органично вписывается в местное общество.
При этом в определенных ситуациях культурное наследие «сахиба» дает о себе знать, даже будучи неосознаваемым: ощущение превосходства над своими приятелями индусом и магометанином в начальном эпизоде, когда Ким по праву «белого» человека, покорившего этот край, восседает на пушке Зам-Зам; страх при встрече со змеями3; способность рационально противостоять гипнотическому внушению, иллюзорно восстанавливающему разбитый кувшин4.
Киплинг последовательно раскрывает своего героя как изначально внутренне причастного к культурным мирам Запада и Востока, Европы и Азии. Поэтому становление персонажа естественно оказывается связанным с развитием как одной, так и другой культурной составляющей. Это становление является словно бы двойной мимикрией: уподоблением европейца жителям Азии и усвоением азиатом достижений европейской, в частности английской культуры.
Так, долгое время избегавший всякого рода опеки со стороны англичан Ким, сначала очутившись в полку своего отца, а затем отправляясь по настоянию отца Виктора и полковника Крейтона в школу Св. Ксаверия и далее уже осознанно участвуя в Большой игре, оказывается вынужденным носить не слишком для него удобную одежду «сахибов», совершенствовать свой английский (до этого времени являвший пример искаженного употребления языка1), овладеть грамотой, изучать дисциплины, необходимые для освоения всего курса обучения в избранном для него учебном заведении, и особенно математику и топографское дело. Отправляя мальчика учиться, полковой священник-католик отец Виктор так определяет предполагаемый результат: «They’ll make a man o’ you, O’Hara, <…> a white man, an’, I hope, a good man» [Kipling, 2014].
На самом же деле, характеризуя систему воспитания в данном учебном заведении, автор романа подчеркивает: «The country born and bred boy has his own manners and customs, which do not resemble those of any other land; and his teachers approach him by roads which an English master would not understand <…> Their parents could well have educated them in England, but they loved the school that had served their own youth, and generation followed sallow-hued generation at St. Xavier’s.The mere story of their adventures, which to them were no adventures, on their road to and from school would have crisped a Western boy’s hair <…> And every tale was told in the even, passionless voice of the native born, mixed with quaint reflections, borrowed unconsciously from native foster-mothers, and turns of speech that showed they had been that instant translated from the vernacular. Kim watched, listened, and approved. This was not insipid, single word talk of drummerboys. It dealt with a life he knew and in part understood» [Kipling, 2014].
Автор акцентирует внимание на отличии воспитания этих мальчиков от собственно английского воспитания. В этом можно также усмотреть реализацию формулы колониального принципа мимикрии «такой же, но не совсем». Однако, в отличие от характеристики Хурри-бабу, здесь Р. Киплинг пытается сформулировать новый специфический для данного региона культурный образец, связанный с местными особенностями и гибридный в своем отличии и от исконно индийского и от английского.
Ким выделяется даже среди этих мальчиков: он более тесно связан со всем разнообразием местных культур. Кроме того, понимание собственных культурных и мировоззренческих особенностей приходит к герою в сознательном возрасте, нарочито проблематизируется (в беседе с полковником Крейтоном2, в размышлениях героя3).
В конечном итоге практическая цель Кима, примиряющая его с необходимостью подчиниться правилам жизни сахибов, – поступление на службу английской администрации, ведение тайной разведывательной деятельности. Хотя Ким и ранее был задействован в Большой игре, но происходило это случайно, более по природной склонности к приключениям, теперь же он осознанно участвует в противостоянии агентов Франции, России и Великобритании, принимая позицию последней.
Для успешной карьеры тайного агента Киму необходимо развивать и своё умение сливаться с самыми разнообразными слоями и кастами индийского общества. Внутренняя мимикрия героя, показывающая усвоение им восточного менталитета, – это и мысли, оформляемые на местном наречии1, и освоение практики медитации2, и своеобразная «толерантность» в религиозных вопросах3, с одной стороны, соответствующая обычаям местных жителей, почитающих разных религиозных служителей, с другой стороны, раскрывающая органичность для персонажа не христианских образов, привнесенных английскими миссионерами, а образов ислама и пестрых местных верований.
Само путешествие Кима с Тешу ламой, как оно описано в романе, завершает процесс с мимикрии европейца: «Each long, perfect day rose behind Kim for a barrier to cut him off from his race and his mother-tongue. He slipped back to thinking and dreaming in the vernacular, and mechanically followed the lama’s ceremonial observances at eating, drinking, and the like <…> So they enjoyed themselves in high felicity, abstaining, as the Rule demands, from evil words, covetous desires; not over-eating, not lying on high beds, nor wearing rich clothes. Their stomachs told them the time, and the people brought them their food, as the sayingis» [Kipling, 2014].
О результате усвоения героем особенностей восточного менталитета можно судить по финальному эпизоду романа, когда Тешу лама беседует с Кимом о финале их поиска священной Реки стрелы: «So thus the Search is ended. For the merit that I have acquired, the River of the Arrow is here. It broke forth at our feet, as I have said. I have found it. Son of my Soul, I have wrenched my Soul back from the Threshold of Freedom to free thee from all sin - as I am free, and sinless. Just is the Wheel! Certain is our deliverance. Come!” He crossed his hands on his lap and smiled, as a man may who has won Salvation for himself and his beloved» [Kipling, 2014].
В этих словах отражаются представления буддиста о смысле его существования – достижение освобождения от «бытия-в-сансаре» [Бережной, 2010] – и готовность, достигнув этого знания, «добиться освобождения от океана сансары для всех живых существ» [Елихина, 2010, с. 18]. Также в этом высказывании видится признание определенной духовной зрелости ученика, которому гуру готов сообщить сакральное знание. Можно сказать, что завершение поисков ламы совпадает с окончательным оформлением основ мировоззрения его ученика.
Становление героя включает в себя мимикрию как уподобление культурным образцам запада и востока. Автор романа за счет изображения «двойной» разнонаправленной мимикрии постоянно показывает наличие некоего избытка (наличия западного в восточном и наоборот), который и делает Кима «таким же, но не совсем». Например, в эпизоде, когда мальчик не поддается гипнозу, восточной технике внушения противопоставлено рациональное размышление, анализ происходящего с применением таблицы умножения, проговариваемой по-английски. В другом эпизоде Ким не соглашается со словами Ламы «To abstain from action is well- except to acquire merit» [Kipling, 2014], отвечая: «At the Gates of Learning we were taught that to abstain from action was unbefitting a Sahib. And I am a Sahib» [Kipling, 2014]. С другой стороны, мальчик соглашается с таким высказыванием: «<…> there is neither black nor white, Hind nor Bhotiyal. We be all souls seeking escape» [Kipling, 2014].
Однако отметим, что детально воспроизводимая восточная составляющая идентичности главного героя (и белого англо-индийца в принципе), как, несомненно, имеющая весомое значение, все же в рамках колониального дискурса остается подчиненной западному началу; в той же мере, в какой ценность способности Кима уподобляться местным жителям обусловлена в конечном итоге ее актуальностью для английской разведки. Э. Саид эту особенность произведения рассматривает как особый прием, заключающийся в том, что «контроль англичан над Индией (Большая Игра) в точности совпадает с тягой Кима к маскировке и переодеваниям, что позволяет ему сливаться с Индией воедино и впоследствии лечить ее недуги» и это не могло осуществиться без «британского империализма» [Саид, 2012, с. 334].
В упоминаемой выше монографии Б. Эшкрофта, Г. Гриффитса и Х. Тиффин «Postcolonial studies: the key concepts» утверждается, что Кимбол ОʼХара, сочетающий, по замыслу автора, «расовое превосходство» и знание местной культуры, разительно отличается от туземцев и представляет собою идеального управляющего для колониального мира, в котором, таким образом, можно не опасаться «расового смешения» [Ashcroft, Griffiths, Tiffin, 2013, p. 174-175].
Добавим, что сравнительный аспект изображения поддерживает приоритет колонизаторов: мимикрия подлинно восточного человека – Хурри-бабу – носит оттенок юмористического изображения, чем подчеркивается ее несовершенство, и лишь белому англо-индийцу (ирландского происхождения) удается органично и эффективно соединить два разнокультурных начала.
Заключение
В романе Р. Киплинга «Ким» представлены разнообразные варианты мимикрии. Бенгалец Хурри-бабу – типичный восточный человек, принимающий западные культурные образцы. Этот персонаж в свете британской колониальной политики может быть идеальным представителем «класса интерпретаторов» («a class of interpreters») [Ashcroft, Griffiths, Tiffin, 2013, p. 125], стоящих между колонизаторами и колонизированными.
В образе главного героя романа – Кимбола О҆Хары – показывается многомерная двунаправленная мимикрия, результатом которой, по замыслу автора, должна стать некая новая идентичность. Она основывается на амбивалентном принятии и отрицании местного индийского (во всем его многообразии) и английского составляющих ее элементов, а потому коррелирует с гибридным пространством колониального культурного контакта. Очевидно, по замыслу Р. Киплинга, результат данной мимикрии ни в коем случае не подрывает авторитет колониальной идеологии.
С точки зрения современной постколониальной теории, эту идею можно объяснить стремлением снизить опасный эффект «смазанной», пародийной копии колонизатора за счет внесения в предлагаемый для подражания культурный образец аутентичных восточных черт колонизированных. В этом отношении можно согласиться с мнением Л. Джеймс [James, 2006, p. 127] о том, что киплинговское видение и осмысление культурного феномена «иного» открывает пути для появления постколониальных исследований.
Список литературы Двойная мимикрия в романе Р. Киплинга "Ким"
- Бережной С.Б. Учение об анатмане и нирване в буддийской философии // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2010.
- Елихина Ю.И. Культы основных бодхисаттв и их земных воплощений в истории и искусстве буддизма. Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ; Нестор-История, 2010. 292 с.
- Зыкова Е.П. Редъярд Киплинг: Восток, Запад и философия неоромантизма // Вишневская Н.А., Зыкова Е.П. Запад есть Запад, Восток есть Восток. Из истории англо-индийских литературных связей в Новое время. Москва: Наследие, 1996. С. 117-156. Научный журнал № 3,2018
- Проскурнин Б.М. «Ким» Редьярда Киплинга: жанровая структура и проблемы перевода (размышления по поводу пермского издания романа в 1991 г.) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 6(12). С. 98-108.
- Саид Э.В. Культура и империализм / Пер. А. В. Говорунова. Санкт-Петербург: «Владимир Даль», 2012. 736 с.