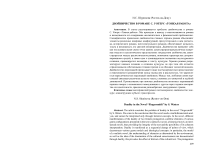Двойничество в романе С. Уотерс "Тонкая работа"
Автор: Шуринова Наталья Сергеевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 3 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема двойничества в романе С. Уотерс «Тонкая работа». Мы приходим к выводу о многоплановости романа и несводимости его содержания исключительно к феминистской проблематике. Специфические проявления двойничества главных героинь романа объединяют элементы различных жанровых конфигураций, присутствующих в нем (детектива, исторического романа, интеллектуального романа), обеспечивают цельность текста и возможность его связной интерпретации. Двойничество проявляет себя как последовательная смена точек зрения, деконструирующая различные жанровые модели и идеологические представления: посредством двойничества деконструируется модель реалистического романа, понимание характера как детерминированного средой, а также идея о доминирующем положении окультуренного сознания, провоцируется недоверие к тексту культуры. Героини романа репрезентируют наивное сознание и сознание культуры, но при этом обе остаются ограниченными собственными точками зрения и не обладают полнотой видения. Двойничество персонажей прописывает также постмодернистское представление о невозможности разграничения между вымыслом и реальностью, что закрепляется неразличимостью персонажей-двойников. Между тем, любовная линия персонажей связывает различные аспекты текста, становясь его сюжетной и идейной доминантой. Прописывание при помощи двойничества интимных переживаний героинь говорит о возможности коммуникации с другим через игровое восприятие его идентичности, преодоления разнообразных дискурсивных границ.
Викторианский роман, постмодернизм, двойничество, дискурс, деконструкция, субъект, трансгрессия
Короткий адрес: https://sciup.org/149139245
IDR: 149139245 | DOI: 10.54770/20729316_2021_3_409
Текст научной статьи Двойничество в романе С. Уотерс "Тонкая работа"
Роман С. Уотерс «Тонкая работа» («Fingersmith», 2002) чаще всего обсуждается критиками как феминистский текст, бросающий вызов патриархальным нормам и викторианской культуре. Об этом свидетельствуют работы С. Онега, М. Хьюз-Эдвардс, К. О’Каллаган, С. Чосия и др. Данный аспект действительно важен: «Тонкая работа» - это феминистский роман о лесбийской любви, где сама любовь становится в итоге главной тайной.
Исследователи обращают внимание на то, что посредством деконструкции повествовательных структур викторианского романа Уотерс удается поставить под сомнение патриархальные ценности. Так, центральными фигурами оказываются не мужские, а женские персонажи [Ciocia 2007]. По словам С. Онега, текст Уотерс представляет собой «альтернативную репрезентацию викторианского общества, где невидимые и маргинализированные гомосексуальные женщины занимают центральное место» [Onega 2015].
При этом текст Уотерс отличается соблюдением топографической точности: она воспроизводит Лондон и его окрестности с детальностью викторианского романа. Однако М. Константини назвал роман «ложновикторианской мелодрамой» («faux-victorian melodrama») [Constantini], а сама Уотерс в интервью утверждала: несмотря на то, что Лондон хорошо ей знаком, она сознает, что создает всего лишь «версию»: «Я отдаю себе отчет в том, что мы все используем город, создавая свои собственные его варианты» [Dennis 2008, 49].
Таким образом, цель Уотерс состоит не в воспроизведении викторианского кода, а в его деконструкции и выведении читателя в иное поле значений. Как мы считаем, текст может быть истолкован и в более широком контексте: особенности образной системы дают возможность видеть в романе иллюстрации постсруктуралистских теорий. В таком ракурсе вопрос о маргинализированной викторианской культурой женщине прочитывается не только в контексте феминизма, но связывается с общечеловеческим опытом взаимодействия субъекта с любой исторической реальностью. Изображение лесбийской любви в романе не только заостряет вопрос о невидимости гомосексуальных женщин, но и позволяет вести разговор о возможности экзистенциальной коммуникации с «другим».
Примечательно что роман сочетает в себе разнообразные жанровые оптики. Это одновременно и исторический роман, и постмодернистский интеллектуальный роман - роман о тексте, восприятии и истолковании знаков. Кроме того, «Тонкую работу» можно прочитывать и как специфический детективный роман, описывающий сложные махинации.
В статье мы обратимся к одному из ключевых приемов, которые использует автор, - двойничеству главных героинь. Как видится, именно двойничество делает возможной связную интерпретацию текста Уотерс, соединяет различные жанровые регистры, переводя детективный сюжет, дискуссию об историческом дискурсе и интерпретации знаков в субъективное поле.
Симптоматично, что изначально героини подаются читателю как представители различных социальных классов, однако классовая принадлежность в итоге оказывается фикцией. Сьюзен - внебрачная дочь аристократки Марианны Лилли, воспитанная среди воров, Мод - дочь воровки Грейс Саксби, попавшая в мир аристократов и воспитанная дядей, коллекционирующим порнографию. По сюжету романа девочек подменили в младенчестве, а их матери заключили между собой договор - с тем, чтобы в будущем наследство Марианны было поровну поделено между дочерями.
Однако миссис Саксби, желая вернуть родную дочь назад и забрать всю сумму целиком, начинает сложную игру с подменой, в результате которой Мод возвращается домой, а Сьюзен оказывается в доме для умалишенных.
Таким образом, ни одна из девушек не знает всей правды о самой себе и о своем положении, не владеет полной информацией о разворачивающихся махинациях. Поэтому каждая из них является ненадежным рассказчиком, интерпретирующим реальность через определенные фильтры.
Заметим, что структура романа схожа с принципом mise-en-abyme, она отвечает сложной, многоступенчатой детективной истории. Перед нами предстает некая «неправда в правде», и «правда» опровергается на новом витке: читателю каждый раз предлагается иной взгляд на происходящие события, подчеркивается неполнота и ошибочность предыдущей версии, деконструируется сама идея «истины».
Немаловажную роль в выстраивании подобного нарратива играет прием смены точек зрения. Начинается рассказ от лица Сьюзен, безродной (как она считает) дочери безликой преступницы, которая попадает в поместье «Терновник» как служанка благородной девушки Мод Лилли. Сьюзен должна убедить Мод выйти замуж за мошенника Ричарда Риверса, который собирается поместить молодую жену в сумасшедший дом и сбежать с ее наследством, часть которого достанется «служанке». Однако в финале первой части романа Сьюзен оказывается обманутой сама. Вторая часть повествует о тех же событиях от лица Мод, ведущей совместно с Риверсом собственную игру.
Разные версии событий можно прочитывать как воплощение различных литературных жанров. Мы начинаем воспринимать текст от лица
Сьюзен, и в этой части он представляет собой классический викторианский роман, написанный в духе Ч. Диккенса и У.У. Коллинза, о близости к которым рассказывала сама Уотерс [Constantini 2006, 18]. Здесь роман изобилует бытовыми деталями, реконструирующими культуру и общество XIX в.
Ключевая тема, заявленная уже в первой части романа, - судьба женщины как маргинального элемента викторианского общества. История Сьюзен начинается с рассказа о происшествии в театре, когда девушка Нэнси умирает от руки Билла Сайкса. Эта первая смерть, символизирующая несвободу женщины, становится лейтмотивом «Тонкой работы». Можно согласиться с М. Хьюз-Эдвадс в том, что «каждая женщина в текстах Уотерс так или иначе находится в ловушке» [Hughes-Edwards 2016, 133].
Однако здесь женская тема интерпретируется реалистически. Образы Сьюзен и Мод рассказывают о судьбах женщин из разных социальных классов, героини оказываются бесправными в силу различных факторов, прежде всего - экономических.
Сьюзен ведома Риверсом и не имеет возможности выйти из игры. Даже если она выдаст правду Мод, то все равно останется воровкой и будет вынуждена вернуться к миссис Саксби ни с чем.
Мод же видится здесь невинной девушкой, запертой в поместье дядей-тираном, для которой единственным путем на свободу становится свадьба с внушающим ей отвращение мошенником: «И не глупо ли надеяться, что здесь появится еще кто-то, кому я буду так же нужна, как ему? Разве у меня есть выбор?» [Уотерс 2018, 151]. Героиня видится невинной и хрупкой, не представляющей о заговоре, плетущемся вокруг ее денег. Сьюзен подчеркивает хрупкость Мод, ее незащищенность перед внешним миром, где она так или иначе будет кем-то использована и сломлена: «Но ее судьба была предопределена давным-давно. Она - былинка, уносимая бурным течением» [Уотерс 2018, 164].
Но неожиданный финал данной версии акцентирует неполноту видения рассказчицы: в итоге «невинная» Мод притворяется служанкой, а Сьюзен выставляет сошедшей с ума миссис Риверс; так двойники первый раз меняются местами. Этот прием не только акцентирует ограниченность точки зрения Сьюзен, но и выступает в романе в качестве саморефлек-сивного средства. Такой финал деконструирует сам жанр реалистического романа, разрушает веру читателя в подлинность истории, заставляя воспринимать ее лишь как модель. Прием смены точек зрения используется в романе несколько раз, и на каждом новом этапе нам предлагается увидеть более сложную картину реальности, провоцируется релятивистское отношение ко всему, что описывается в тексте.
Вторая версия событий передана с точки зрения Мод. И теперь мы видим ее как искушенную и умную женщину, выстраивающую хитроумную интригу, а невинной в этой версии становится сама Сьюзен.
И эта версия прочитывается уже не столько как исторический, но как интеллектуальный роман: автор практически сразу вводит нас в философский дискурс XX в., давая понять, что мы читаем роман о тексте, знаках и сознании, воспринимающем и воспроизводящем знаки. Как справедливо утверждает А. Деннис, текст Уотерс представляет собой «искусную адаптацию викторианского сюжета и стилистических техник, дополненную ссылками на литературу XX века, теорию культуры и квир-теорию» [Dennis 2008,41].
Нам рассказывается о том, как в детстве Мод попадает в дом дяди, Кристофера Лилли, который превращает ее в личного секретаря: в доме дяди героиня занимается исключительно тем, что читает вслух и переписывает порнографическую литературу, которой увлечен хозяин дома. Мод выступает здесь как идеальный скриптор в понимании Р. Барта - тот, кто «несет в себе не страсти, настроения, чувства или впечатления, а только такой необъятный словарь, из которого он черпает свое письмо, не знающее остановки» [Барт 1994, 389]. «Для него я что-то вроде машины для чтения и переписывания текстов», - говорит Мод Риверсу [Уотерс 2018, 318].
С одной стороны, если смотреть на образ порнографической литературы в феминистской оптике, бросается в глаза, что скриптор, которым становится Мод, вынужден транслировать маскулинный дискурс: обращение в скриптора означает стирание женской идентичности Мод. Неслучайно дядя видит Мод как обезличенного ребенка: «окультуренным» сознание женщины может стать только посредством подавления мужской культурой, любой текст - это прежде всего текст мужчин.
Но, с другой стороны, данный образ можно истолковать и шире - как универсальную метафору «развращенности книжным словом»: мы перестаем быть невинными, когда сталкиваемся с языком, текстом культуры, сознание становится обусловленным знаковыми системами.
Примечательно, что невинность Сьюзен здесь связывается не столько с ее наивными воззрениями, сколько с тем, что она просто не умеет читать. Дядя устанавливает в библиотеке медный перст, «границу невинности» -на расстоянии, которое не позволяет вошедшему прочесть печатный текст и за которую запрещается заходить слугам. Мод думает о том, что Сьюзен в любом случае не смогла бы узнать тайну дяди: «Она может смотреть здесь на все - на все, что угодно, - для нее это будут просто чернильные знаки на бумаге» [Уотерс 2018, 290]. Таким образом, две версии событий, рассказанные Сьюзен и Мод, можно прочесть как точки зрения «наивного сознания» и «сознания культуры».
Во второй версии «сознание культуры» видится более опытным, способным выстроить объемную картину действительности, Мод кажется, что она интеллектуально доминирует над Сьюзен. Однако и точка зрения «сознания культуры» в итоге оказывается ошибочной. Поместив Сьюзен в сумасшедший дом, Мод и Риверс приезжают в Лондон к миссис Саксби, которая держит Мод взаперти, надеясь с ее помощью получить наследство. Мод понимает, что обманутыми оказались и она, и Сьюзен: их двой- ничество в этой части романа подчеркивается фактически одинаковым положением заключенных, в котором они оказываются несмотря на всю разницу в воспитании и опыте.
Обманутыми вновь оказываются и читательские ожидания: интеллектуальный персонаж тоже оказывается ненадежным рассказчиком. Книжный опыт не спасает Мод от неведения, обе девушки по-своему ограничены и заперты в границах реальностей, которые знают. Примечательно и то, что и Мод, и Сьюзен в определенный момент сбегают из своих «тюрем», однако именно практичной воровке Сьюзен, свободной от текстовой культуры, в итоге удается добраться до Лондона. Начитанная Мод дезориентирована внешним миром и возвращается обратно к миссис Саксби.
Вместе с тем, посредством неразличимости между главными героинями романа в тексте обыгрывается невозможность разграничения между текстовой и внетекстовой реальностью: принятие возможности такого разделения порождается идеологиями и приводит к сегрегации.
В этом смысле важен образ сумасшедшего дома, куда попадает Сьюзен под видом сошедшей с ума Мод Риверс. Данный образ часто прочитывается критиками как «метафорическое заточение» женщины в викторианском обществе [Hughes-Edwards 2016, 133]. Однако обратим внимание на диагноз, поставленный Сьюзен, пытающейся правдиво рассказать о событиях в «Терновнике», - «эстетический шок». Доктор Кристи предполагает, что расстройство «миссис Риверс» связано с тем, что она читала слишком много романов, настолько неправдоподобным выглядит все, что она говорит: «Украденные сокровища и девицы, которых выдают за безумных? Только в дешевых книжках такое бывает» [Уотерс 2018, 496]. Героиня говорит правду, но доктор, принимая неграмотную Сьюзен за образованную миссис Мод Риверс, считает, что она фабулирует реальность, оказавшись не в состоянии провести границу между вымышленным и реальным.
На наш взгляд, образ сумасшедшего дома также может быть интерпретирован гораздо шире - как символ подавления личности дискурсом власти, пространство, в котором «исправляется» неправильное мышление. Сумасшедший дом в романе Уотерс - это место, куда общество отправляет всех, кто неспособен воспроизводить то, что условно считается «истиной».
Симптоматично, что, пытаясь сделать из Сьюзен Мод, доктор Кристи пытается заставить Сьюзен писать на доске, т.е. воспроизводить текст культуры, чего она сделать никак не может. Мотив безумия здесь во многом созвучен идеям М. Фуко: «Ограниченному пониманию [человека] недоступна даже неполная, преходящая истина видимой стороны вещей; для его безумия открыта лишь их изнанка, теневая сторона, прямо противоположная их истине» [Фуко 1997, 49].
Кроме того, двойничество Мод и Сьюзен деконструирует реалистическое представление о детерминированности характера средой: Сьюзен и Мод, изображенные как типичные представители социального «верха» и социального «низа», оказываются в итоге на противоположных ступенях социальной иерархии. Взаимозаменяемость персонажей подчеркивает, что характер также обусловлен дискурсивными практиками. Характер -это всего лишь навязанная роль, в то время как на самом деле таких ролей может быть бесконечное множество.
Двойничество Мод и Сьюзен отображает в романе Уотерс постмодернистское представление о множественном субъекте: личность не замыкается в самой себе и собственной индивидуальной вселенной, но оказывается открытой для самых различных игровых опытов. В результате Мод может не просто заменить Сьюзен, но быть ей, как и Сьюзен может быть Мод.
Примечательно, что и название романа предлагает нам размышлять скорее о роли, чем о конкретной личности. На русский язык Н. Усова перевела название как «Тонкая работа», акцентируя процесс игровых махинаций. Оригинальное название, «Fingersmith» [Waters 2002], должно указывать на личность умелого и ловкого мошенника, однако в роли такого мошенника может выступать здесь и Ричард Риверс, и Мод, и Сьюзен, и миссис Саксби.
Но главным образом, как представляется, роман «Тонкая работа» - это роман о любви и об эмпатии, интерпретации «другого». Двойничество прописывает здесь возможность экзистенциальной коммуникации персонажей, опровергает непроницаемость личности и предлагает увидеть возможность подлинного общения как особой игры.
Подчеркнем, что это игра, направленная скорее не на воспроизведение черт другого, но на его сотворение в процессе взаимодействия. Уотерс показывает, что подлинное «Я» не познается, но создается, взгляд здесь приравнен к акту творения. Сьюзен ничего не знает о Мод, она выдумывает ее, и выдумка становится реальностью, давая Мод новую идентичность: «Как будто своим касанием я вызывала из темноты ее тепло, ее гладкость и создавала, лепила заново - словно тьма, сгустившись, мгновенно застывала под моей ладонью» [Уотерс 2018, 171]. Новое «Я» противопоставляется ролям, которые Мод вынуждена играть в рамках традиционной культуры, «имитациям имитаций, дискурсивным конструкциям, которые никак не связаны с естественной <...> идентичностью» [Yurttas 2018, 111].
Важно, что в сюжетном отношении любовная история героинь тесно переплетена и с исторической, и с детективной, и с интеллектуальной линиями, она проходит через весь роман. Однако возникновение взаимного интереса героинь друг к другу показано как не зависящее ни от каких внешних детерминант. С одной стороны, двойничество обеспечивает цельность текста, связывая различные регистры, с другой - говорит о возможности преодоления самых разных дискурсивных границ на интимном уровне.
Если в рамках детективного сюжета девушек насильно заставляют меняться ролями, то в личной истории это прочитывается как экзистенциальный опыт, в котором стираются границы между двумя индивидуальностями. В сцене близости Мод и Сьюзен, присутствующей в романе в двух вариантах, героини меняются местами, становясь практически неразличимыми: «Когда ее лицо стало мокрым от слез, я поцеловала ее слезы. <.. .> Она плачет. Слезы капают мне на лицо. Она приникает к ним губами» [Уотерс 2018, 172,335].
Любовный нарратив постепенно контаминирует иные жанровые конфигурации в составе романа, переводит их на личностный уровень. В результате ключевой детективной интригой становится не столько вопрос о том, кто и как совершил подмену младенцев, сколько то, узнает ли Мод о чувствах Сьюзен, а Сьюзен - о чувствах Мод. Вместе с тем подлинность любовных переживаний героинь - это то, в чем не сомневается сам читатель, владеющий всеми точками зрения.
Примечательно, что ключевая для романа сцена узнавания, когда Сьюзен находит в кармане платья казненной миссис Саксби документ, где рассказывается о происхождении Сьюзен и Мод, выступает как финальное разоблачение истины, однако ценность оно имеет именно в рамках любовного нарратива. Сьюзен узнает тайну своего происхождения, историю о наследстве, но документ свидетельствует и о том, что Мод - не предательница. На передний план выводится именно субъективное, а все, что имеет монетарную ценность, которая была бы значимой в контексте реалистического романа, отодвигается.
Кроме того, чтение и интерпретация также представлены у Уотерс как способ коммуникации. Понимание «другого», недоступное при первом взгляде, становится возможным в процессе чтения текста, само «Я» представляет собой текст. Неслучайно Сьюзен удается простить Мод после того, как ей прочли договор, изначально недоступный для ее понимания: «Я <...> увидела чернильные строчки - узенькие, плотные и загадочные. Чем дольше я вглядывалась, тем более загадочными они становились» [Уотерс 2018, 624]. Способность любить зависит от способности понимать, видеть и трактовать некие знаки, рассказывающие об идентичности «другого».
Заканчивается роман тем, что Мод учит Сьюзен читать, и через чтение делает сопричастной самой себе: «Она поставила лампу на пол, расправила на коленях листок. И стала показывать мне слова, которые на нем написала, - одно за другим» [Уотерс 2018, 637]. Финал романа показывает, как знаковая система, поработившая героиню, символически приручается ею, становится средством трансляции интимных переживаний.
Таким образом, двойничество в романе С. Уотерс «Тонкая работа», выраженное через пару персонажей Мод и Сьюзен, связано с различными жанровыми конфигурациями (исторического, детективного, интеллектуального романов). При помощи приема двойничества деконструируются жанровые модели и идеологические представления: текст построен как последовательная смена точек зрения, ни одна из которых не является истинной, что провоцирует недоверие читателя к реалистическому повествованию и к тексту культуры в целом.
Кроме того, пара Сьюзен и Мод воплощают наивное сознание и со- знание окультуренное, причем близость к культуре становится символом подавления дискурсом власти. Образ сумасшедшего дома предстает в романе пространством, реализующим насильственное вовлечение личности в дискурсивное пространство эпохи.
Воплощение двойничества в рамках любовного нарратива заставляет воспринимать границы личности как проницаемые, говорит о возможности экзистенциальной коммуникации с другим.
Двойничество персонажей связывает между собой различные аспекты романа, и, с одной стороны, обеспечивает смысловое единство текста, с другой - побуждает прочитывать элементы разных жанровых конфигураций в субъективно-личностной оптике.
Список литературы Двойничество в романе С. Уотерс "Тонкая работа"
- Барт Р. О смерти автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994. С. 384-391.
- Уотерс С. Тонкая работа. М.: Иностранка; Азбука-Аттикус, 2018. 640 с.
- Фуко М. Безумие и неразумие. История безумия в классическую эпоху. СПб.: Университетская книга, 1997. 445 с.
- Ciocia S. «Queer and verdant»: the textual politics of Sarah Waters's neo-Victorian Novels // Literary London: interdisciplinary studies in the representation of London. 2007. № 5 (2). URL: http://www.literarylondon.org/london-journal/septem-ber2007/ciocia.html (дата обращения: 21.08.2020).
- Constantini M. «Faux-Victorian Melodrama» in the new millennium: the case of Sarah Waters // Critical Survey. 2006. № 18 (1). P. 17-19.
- Dennis A. «Ladies in peril»: Sarah Waters on neo-Victorian narrative celebrations and why she stopped writing about the Victorian era // Neo-Victorian studies. 2008. № 1 (1). P. 41-52.
- Hughes-Edwards M. «Better a prison ... than a madhouse!»: incarceration and the neo-Victorian fictions of Sarah Waters // Jones A., O'Callaghan C. Sarah Waters and contemporary feminisms. London: Palgrave Macmillan, 2016. P. 133-151.
- O'Callaghan C. «The grossest rakes of fiction»: reassessing gender, sex, and pornography in Sarah Waters's Fingersmith // Critique: studies in contemporary fiction. 2015. № 56 (5). P. 560-575.
- Onega S. Pornography and the crossing of class, gender and moral boundaries in Sarah Waters' «Fingersmith» // Études britanniques contemporaines. 2015. № 48. DOI: https://doi.org/10.4000/ebc.2053
- Waters S. Fingersmith. New York: Riverhead Books, 2002. 511 p.
- Yurttaç H. Masquerade in Fingersmith // Journal of narrative theory. 2018. № 48 (1). P. 109-134.