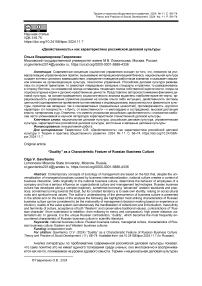«Двойственность» как характеристика российской деловой культуры
Автор: Гавриленко О.В.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
Современные концепции социологии управления исходят из того, что, несмотря на универсализацию управленческих практик, вызываемую интернационализацией бизнеса, национальная культура создает контекст делового взаимодействия, определяет поведение работников компании и оказывает серьезное влияние на организационную культуру, технологии управления. Российская деловая культура развивалась по сложной траектории, то заимствуя «передовые» западные стандарты и практики, то разворачиваясь в сторону Востока, но неизменной всегда оставалась тенденция поиска собственной идентичности, опора на социокультурные корни и духовно-нравственные ценности. Представлено авторское понимание феномена деловой культуры, на основе проведенного социологического анализа выделены наиболее яркие ее черты: иррациональность управления (принятие решений на основе опыта либо интуиции), двойственность системы ценностей (одновременное проявление коллективизма и индивидуализма, маскулинности и феминности культуры, принятие как западных, так и консервативных традиционных ценностей), противоречивость «русского характера» (от покорности - к бунту, от воинственности - к милосердию и состраданию), высокая дистанция власти, патернализм и др. Отмечено, что именно уникальная российская «двойственность» становится наиболее часто упоминаемой в научной литературе характеристикой отечественной деловой культуры.
Национальная деловая культура, российская деловая культура, управленческая культура, характеристики российской деловой культуры, восточные и западные деловые культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/149146979
IDR: 149146979 | УДК: 316.75 | DOI: 10.24158/tipor.2024.11.7
Текст научной статьи «Двойственность» как характеристика российской деловой культуры
,
зачастую используется как синоним к понятиям «модель управления», «национальная культура», «организационная культура», «культура предпринимательства», «культура делового общения». На наш взгляд, она включает прежде всего ценностные установки персонала, нормы и правила ведения бизнеса, деловую этику и этикет, фиксируется в стандартах обслуживания, нормах, правилах, обычаях, традициях поведения и делового взаимодействия (Гавриленко, 2024). Деловая культура представляет собой как бы проекцию национальной культуры страны (культуры народа) на бизнес-плоскость, она характеризуется практически теми же признаками. Следует согласиться с утверждениями Рональда Инглхарта и Кристиана Вельцеля, что деловую культуру в первую очередь определяют культурно-исторические факторы: религиозные традиции общества, колониальное прошлое и зона распространения общего языка (Инглхарт, Вельцель, 2011).
Современную российскую деловую культуру невозможно понять без исторического контекста, без анализа ее генезиса. Наше изучение российской деловой культуры за достаточно длительный исторический период позволяет констатировать ее оригинальность, самобытность, непохожесть и в то же время некоторую схожесть как с западными, так и с восточными бизнес-культурами («двойственность», «сочетание несочетаемого» или, как выражается Р. Льюис (1999), «шизоид-ность» можно рассматривать как яркую и определяющую черту российской культуры).
Траектория развития российской деловой культуры сложная и неоднозначная, наше исследование позволило зафиксировать выраженную «маятниковость» движения (от реформ – к контрреформам, от заимствования «прогрессивных западных» практик – к национальным «корням» и самобытности, от коллективизма – к индивидуализму, от централизации управления – к поощрению самостоятельности сотрудников).
Дореволюционный период развития культуры предпринимательства в России отличается особым этическим кодексом ведения бизнеса, сильным воздействием религии на предпринимательскую деятельность, опорой на ценности православия, выраженным влиянием географического и природно-климатического факторов на деловую культуру.
В советское же время трудовая этика определялась доминированием марксистско-ленинской идеологии и ведущей ролью коммунистической партии, работники демонстрировали приверженность ценностям коллективизма, приоритету общего над частным, отношения на предприятиях отличались сплоченностью, строгим иерархическим порядком, формализацией рабочих взаимодействий при опоре на личные связи.
Ранний постсоветский период отличается резким отказом от исторически сложившегося порядка осуществления деловой активности и устоявшейся управленческой культуры. Российские реформаторы стремились вырастить «западные» компании из советских предприятий, бизнесмены часто копировали европейский опыт ведения дел, причем понимался он ими по-своему, внедряли требования жесткой внутренней конкуренции и способствовали становлению либеральной системы ценностей. Все это происходило на фоне разрушительной приватизации, отказа от плановой экономики и патерналистской системы отношений организаций с государством (Гавриленко, 2024).
Наконец, современный период развития российской деловой культуры характеризуется тем, что в ходе очередного «маятникообразного» движения – от активизации международной деятельности, освоения внешних рынков, усиления контактов с зарубежными партнерами к вынужденному в результате действия западных санкций разрыву деловых связей с организациями «недружественных» стран и переходу к импортозамещению – в стране оформилась оригинальная и самобытная деловая культура, имеющая ряд специфических черт и «характерную “двойственность” (одновременно коллективизм и индивидуализм, маскулинность и феминность, ориентацию на задачу и на человека, моноактивность и полиактивность, полихронно-синхронную организацию рабочего времени …, ориентацию на индивидуальные достижения и на предписанный статус, спокойное отношение к риску и стремление к безопасности и предсказуемости)» (Гавриленко, 2024: 157).
Двойственность доминирующих ценностей российской деловой культуры во многом является отражением не только сложных исторических процессов, но и поляризации самого общества. Нельзя рассматривать систему ценностей россиян как некий монолит, она имеет сложную многоуровневую структуру. Более того, необходимо говорить о продолжающемся процессе кристаллизации ценностей, о высоком уровне поляризации современного российского общества, например, по таким основаниям, как национальность, возраст, уровень материального благополучия, территория проживания, образование, профессия, религия и др. (Ценностно-смысловые и интеллектуальные основания стратегического развития России в условиях глобальных вызовов …, 2023: 136). Результаты современных исследований ценностей в России позволяют говорить также, например, о разных типах мировоззрения больших социальных групп – нациоцентри-стов, фамилиоцентристов (самая многочисленная группа – более 60 %) и эгоцентристов (Ценностно-смысловые и интеллектуальные основания стратегического развития России в условиях глобальных вызовов …, 2023). Причем эгоцентризм наиболее выражен среди молодежи, что демонстрирует в ее среде тренд на «особые» ценностные установки, во многом диссонирующие с аксиологической системой родительского поколения.
Если выделять ключевые факторы, которые способствовали становлению российской деловой культуры и приданию ей своеобразия, то следует прежде всего отметить влияние географического, природно-климатического, религиозного факторов, сформировавших не только специфическую управленческую культуру, но и особый характер, менталитет россиян. Именно жесткая, иерархически-бюрократическая модель власти на протяжении длительного исторического периода, на наш взгляд, выступала в России гарантом целостности территории, стабильности общества, препятствовала центробежным стремлениям. В нашей стране сложилась высокая дистанция власти (пользуясь терминологией Г. Хофштеде (Hofstede, 2001)), для менталитета россиян характерно уважение сильного, авторитетного правителя.
Государство всегда играло определяющую роль в выстраивании экономических отношений в России, это способствовало закреплению таких черт деловой культуры, как патернализм и этатизм. Известный ученый Ш. Шварц провел исследование в европейских странах с целью выявления, в том числе, различий между странами Восточной и Западной Европы. Было выявлено, что для первых характерны такие черты, как «принадлежность» и «иерархия» (то же можно сказать и про Россию), в то время как для вторых важны «равноправие», «мастерство», «интеллектуальная и аффективная автономия». Следует согласиться с мнением Ш. Шварца, что акцент на равноправии, автономии стимулирует развитие институтов демократии, а ориентация на власть и принадлежность способствуют развитию патернализма, этатизма, формируют высокую дистанцию власти, что характерно и для российской культуры ведения бизнеса (Шварц, 2008).
Наряду с присущими российской деловой культуре этатизмом и патернализмом, яркой чертой российской ментальности является «местечковость». В силу выраженности географического фактора (бескрайней территории) верховная власть находится настолько далеко от отдельных регионов, что становится больше идолом, чем осязаемым источником господства. Во многом это способствует усиление роли личных отношений при решении любых проблем; исторически сложилась система взаимодействия с властью, где формализованные процедуры подменяются хорошо налаженными личностными связями. С позиции «западного» подхода к управлению отход от формально-деловых принципов выстраивания управленческих и производственных процессов в организации является дисфункцией, в то же время многие иностранцы, работающие с российскими компаниями, признают, что «опора на личные связи внутри организации и за ее пределами … очень помогают эффективно вести бизнес и выстраивать деловые взаимодействия»1.
Многие исследователи отечественной деловой культуры отмечают присущую ей «авраль-ность» , то есть умение персонала мобилизоваться в экстремальных, кризисных ситуациях, к какой-то отчетной дате, при этом демонстрация некоторого «засыпания» в другие периоды2. Такая авральность была характерна и для дореволюционного периода России (что объясняется, например, влиянием климатических и географических особенностей страны, а также религии), и в советское время, когда пятилетние планы развития выполнялись с завидным опережением сроков. В современный период она не исчезла, наоборот, новые вызовы, связанные, например, с внедрением информационно-коммуникативных технологий, способствовали креативным способам решения срочных задач («поручению» искусственному интеллекту написания отчетов, резюме, поздравительных речей руководства и т. п.).
Как отмечает английский культуролог Р. Льюис, на русский характер и систему ценностей оказали влияние не только высокая дистанция власти и авторитарно-патерналистский стиль правления. Он считает, что «два главных фактора формирования русских ценностей и коренных убеждений остаются постоянными при любом правлении – необъятные просторы России и неизменная суровость ее климата» (Льюис, 1999: 316).
Сложности с освоением земель и ведением сельскохозяйственной деятельности в России усугублялись регулярными военными конфликтами. «Крестьянам надо было умудряться вести хозяйство не только в сжатый промежуток короткого лета, но и между военными походами и набегами врагов, не только успеть вырастить и собрать урожай, но и спрятать его (а нередко и укрыться самим). Причем прятать урожай приходилось попеременно то от внешних врагов, то от собственной авторитарной власти»3.
Религиозный фактор в России оказал серьезное влияние на формирование специфической системы отношений между собственниками и работниками. Он определил «тип внутрифирменных отношений, в котором воплощался православный дух соборности, стремление любого социального организма, будь то семья, предприятие или государство, к целостности»1. Как было сказано еще в «Домострое», «люди торговые, и мастеровые, и земледельцы тоже пусть праведным только и благословенным торгуют, и производят, и пашут – без покражи, разбоя и грабежа, без поклепов и лжи, клеветы и обманов; пусть торгуют и промышляют нажитым праведными трудами, не ростовщичеством, но благодаря приплоду, труду и всякому урожаю исполняют дела свои добрые по христианскому закону и по заповедям Господним: угодит в сем мире – вечную жизнь заслужит»2.
Не только православие формировало ценностную, духовно-нравственную основу российской культуры, но и ислам. Исламская модель экономического поведения подразумевает безусловный приоритет этических принципов над выгодой, труд рассматривается как основа благосостояния, ростовщическая деятельность воспринимается как грех, нечестный способ обогащения (банковская система в исламских странах функционирует иначе, чем в других странах), интересы человека и общества всегда взаимосвязаны, социальная справедливость достигается через пожертвования в пользу слабых (обязательные и добровольные). «В западном идеале предпринимателя доминирует, как правило, нацеленность на персональный успех и готовность к риску. В мусульманском – приоритет отдается кооперированию усилий во имя блага деловых партнеров. Что же касается риска, то исламская мораль осуждает те сделки, в основе которых – игра на изначальной неопределенности конечных результатов для обеих или одной из сторон (гарар). Среди моральных качеств, которыми должен руководствоваться бизнесмен, наибольшее значение имеют такие, как честность …, бережливость …, доверие и т. д.» (Нуруллина, 2004: 55).
Е.Г. Ясин при рассмотрении процесса экономической модернизации в России выделял ряд ценностей, которые во многом определили специфику народного хозяйства страны. К ним он относил духовность (приоритет невещественного над материальным), коллективизм (групповая, совместная работа, артели), жертвенность (готовность поступаться личным ради общественного блага), соборность (общинность, патернализм), особое отношение к труду и успеху (труд как процесс, отсутствие ориентации на результат), восприятие работы как удовольствия (не ради прибыли, а ради удовлетворения потребности в творчестве, «радость мастера»), размах и склонность к масштабным делам (нежелание все просчитывать и экономить, широкие жесты, бесшабашность, небрежность), нестяжательство (богатство – грех, лучше отдать нуждающимся, чем продать и заработать), справедливость (обостренное чувство правды, важность жить по совести), эмоциональность (порыв души, интуиция, а не рациональный расчет – «будь, что будет», «плачу за всех») (Ясин, 2003).
Большая территория страны, суровый климат и постоянные военные конфликты неизбежно порождали чувство уязвимости, фатализма, закрытости от внешнего мира, вызывали желание держаться вместе. «Огромные расстояния, полное отсутствие коммуникаций между населёнными пунктами в течение большей части года объективно обусловливали ощущение абсолютной заброшенности, постоянного присутствия опасности, которую невозможно предвидеть … Стремление объединиться, чтобы вместе противостоять трудностям и бедам, воспитывало чувство коллективизма. Без объединения в семьи, группы, общины и т.п. противостоять бедам, да и просто выжить было практически невозможно»3. Многолетняя привычка разделять трудности, делать все сообща неизбежно способствовала формированию ценности коллективизма. Следует сказать, что современные исследования все в большей степени фиксируют рост индивидуализма, особенно среди молодого поколения и жителей крупных российских городов (Пищик, Жолдасов, 2024).
На наш взгляд, российскую деловую культуру сложно отнести однозначно к коллективистской или индивидуалистской, данный параметр в большей степени характеризует именно двойственность системы ценностей россиян. Коллективизм и сплоченность чаще проявляются в период кризисов и перед внешними угрозами, также можно констатировать их историческую обусловленность (это связано и с религией, и с длительным советским историческим периодом), но последние исследования все больше отмечают крен в сторону индивидуализма, особенно если речь идет о молодежи, жителях мегаполисов, работниках транснациональных компаний и др. Само слово «коллективизм» у многих россиян вызывает сегодня, скорее, негативные коннотации – ассоциации с коммунистической идеологией, отсутствием справедливого вознаграждения за труд, «уравниловкой» и др. В то же время именно коллективизм (наряду с взаимопомощью, преемственностью поколений, служением Отечеству и т.п.) относится к числу традиционных духовных ценностей, которые российская власть старается сохранить.
Исследователи российской национальной и деловой культуры, выделяя типичные для россиян ценности, ценность коллективизма называют чаще всего, опираясь на религиозные корни культуры (соборность, общинность, взаимопомощь, забота о слабом и т. п.). Но в то же время, принимая во внимание огромную территорию страны, этнический, религиозный факторы, нельзя говорить, что коллективизм был присущ россиянам «вообще». Так, жителям северных территорий России, несмотря на сложные климатические условия жизни, способствующие формированию сплоченности и коллективизма, более свойственны обособленность, опора на самого себя и упование на Бога (особенности сурового северного мореплавания содействуют большей религиозности), индивидуализм, свободолюбие.
Для понимания причин вышеуказанной «двойственности» российской деловой культуры можно обратиться, например, к теории моральных оснований Дж. Хайдта (Haidt, 2002) и исследованиям, проведенным на основе этой теории (Сычев, Белоусов, 2021). Моральные основания, по Дж. Хайдту, – это основания для моральной оценки событий и поступков, при этом нравственная сфера базируется на пяти основаниях, образующих две категории: этика сообщества и этика автономии (Haidt, 2002). Первая «включает нормы и ценности, поощряющие преданность своей группе (моральное основание “лояльность”), уважение ее традиций и лидеров (“уважение”), почитание религиозных и национальных святынь (“чистота/святость”). Этика автономии включает нормы и ценности, ориентированные на защиту благополучия (моральное основание “забота”) и прав личности (“справедливость”)» (Сычев, Белоусов, 2021: 108). Дж. Хайдт утверждает, что для лиц с либеральными убеждениями этика сообщества не имеет такого значения, как этика автономии, при этом для людей с консервативными взглядами моральные основания первой (лояльность, уважение, святость) не менее важны, чем второй (забота и справедливость) (Haidt, 2002).
На основе анализа разных параметров кросс-культурных различий, выделенных в свое время Г. Хофштеде, Ф. Тромпенаарсом, Ш. Шварцем и др. (Hofstede, 2001; Тромпеннарс, Хэмпден-Тернер, 2012; Шварц, 2008), можно сделать заключение, что для россиян более характерны консервативные взгляды и моральные основания этики сообщества, по Дж. Хайдту. Российские ученые О.А. Сычев, К.И. Белоусов выдвинули гипотезу о том, что этика сообщества и этика автономии, в том числе, проявляются в представлениях россиян о Родине. «Результаты исследований на российских выборках свидетельствуют о том, что высокая оценка этики автономии сочетается с озабоченностью вопросами бедности и справедливости оплаты труда, демократии и свободы слова. В то же время люди, разделяющие нормы этики сообщества, в большей мере одобряют стремление к поддержанию патриотизма и единства в обществе, они поддерживают рост затрат на оборону, будучи обеспокоены возможными действиями внешних или внутренних врагов, выше оценивают роль религии в жизни общества» (Сычев, Белоусов, 2021: 108).
Результаты данного социологического исследования позволяют проследить связь представлений о Родине российских респондентов с различными показателями этики автономии и этики сообщества. «Этика сообщества сочетается с игнорированием в представлениях о Родине негативных явлений, отражающихся в таких категориях словаря моральных оснований, как “вред” и “несправедливость”, то есть касающихся нарушения прав и свобод личности. Это неудивительно, так как чаще всего подобные явления связываются с действиями властей, а моральное основание “уважение”, входящее в этику сообщества, затрудняет критическое отношение к элитам и представителям власти» (Сычев, Белоусов, 2021: 121). Доминирование этики сообщества в целом характерно для восточных деловых культур.
Если определять место российской деловой культуры на континууме «Запад – Восток», то можно увидеть достаточно своеобразную ситуацию – по «самоопределению и самопозициониро-ванию» она ближе к западным (мы себя воспринимаем скорее европейцами), но по многим объективным параметрам российская культура больше напоминает Восток. Например, она отличается высокой дистанцией власти (по 100-балльной шкале Г. Хофштеде российская деловая культура получает более 90 баллов), принадлежит к культурам, чувствительным к статусным характеристикам. Высокая дистанция власти характеризуется боязнью оспаривать точку зрения руководства, нежеланием проявлять инициативу (она часто наказуема), восприятием себя «маленьким человеком», от которого ничего не зависит, единоличным принятием решений начальником, проявлением послушания, смирения подчиненных перед руководством, ожиданием четких указаний и инструкций от начальства. В российских компаниях функции контроля уделяется особое внимание, при этом он преимущественно является внешним.
Мы считаем, что российским компаниям свойственны многие черты «восточных» организаций – клановость (доминирование организационной культуры «семья»), диффузность (привычка смешивать личное и профессиональное), высококонтекстуальность (важность учета контекста при восприятии информации), приоритет личных отношений над формальными предписаниями, лояльность, тяготение к коллективизму, широкая общая профессиональная компетентность и умение «перебрасывать мостик» от одной сферы деятельности к другой, творческий подход к делу и нелюбовь к алгоритмам и правилам, работа в условиях изменения условий или многозадачности и др. (Гавриленко, 2024).
Следует подытожить, что российская деловая культура, даже частично впитывая и усваивая «чужие» ценности и социальные практики, несмотря на влияние глобальных трендов, все равно сохраняет свою национальную идентичность, самобытность, непохожесть на западные и восточные культуры, свою уникальную «двойственность».
Список литературы «Двойственность» как характеристика российской деловой культуры
- Гавриленко О.В. Современная российская деловая культура: «особый» путь развития или заимствование «чужих» управленческих практик? // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2024. Т. 30, № 2. С. 157-177. https://doi.org/10.24290/1029-3736-2024-30-2-157-177.
- Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: последовательность человеческого развития. М., 2011. 462 с.
- Льюис Р. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию. М., 1999. 439 с. Нуруллина Г. Исламская этика бизнеса. М., 2004. 112 с.
- Пищик В.И., Жолдасов Д.С. Тренды коллективизма и индивидуализма в ментальности представителей молодых поколений // Мир науки. Педагогика и психология. 2024. Т. 12, № 1. С. 1 -12.
- Сычев О.А., Белоусов К.И. Связь этики автономии и этики сообщества с представлениями россиян о Родине // Сибирский психологический журнал. 2021. № 80. С. 107-127. https://doi.org/10.17223/17267080/80/6.
- Тромпеннарс Ф., Хэмпден-Тернер Ч. 4 типа корпоративной культуры. Минск, 2012. 528 с.
- Ценностно-смысловые и интеллектуальные основания стратегического развития России в условиях глобальных вызовов / под общ. ред. В.А. Фадеева, Т.А. Вархотова. М., 2023. 255 с.
- Шварц Ш. Культурные ценностные ориентации: природа и следствия национальных различий // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2008. Т. 5, № 2. С. 37-67.
- Ясин Е. Модернизация экономики и система ценностей // Вопросы экономики. 2003. № 4. С. 4-36. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2003-4-4-36.
- Haidt J. The Moral Emotions // Handbook of Affective Sciences. N. Y., 2002. P. 852-870. https://doi.org/10.1093/-oso/9780195126013.003.0045.
- Hofstede G. Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across Nations. California, 2001. 596 р.