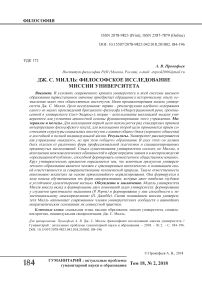Дж. С. Милль: философское исследование миссии университета
Автор: Прокофьев Андрей Вячеславович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (42), 2018 года.
Бесплатный доступ
Введение. В условиях современного кризиса университета и всей системы высшего образования первостепенное значение приобретает обращение к историческому опыту осмысления задач этих общественных институтов. Нами проанализирована модель университета Дж. С. Милля. Цели исследования: первая - реконструкция идейного содержания одного из малых произведений британского философа («Инаугурационной речи, произнесенной в университете Сент-Эндрюс»); вторая - использование миллевской модели университета для уточнения ценностной основы функционирования этого учреждения. Материалы и методы. Для воплощения первой цели используется ряд стандартных приемов интерпретации философского текста; для воплощения второй цели применяется прием соотнесения структуры социальных институтов с идеями общего блага (хорошего общества) и достойной и полной индивидуальной жизни. Результаты. Университет рассматривается как учреждение «высшего», но при этом «общего» образования. В силу этого он должен быть отделен от различных форм профессиональной подготовки и специализированных продвинутых исследований. Смысл существования университетов состоит, по Миллю, в исполнении межпоколенческих обязанностей в сфере передачи знания и в воспроизводстве «просвещенной публики», способной формировать «компетентное общественное мнение». Круг университетских предметов определяется тем, что конечным продуктом университетского образования является человек с «расширенным интеллектом» и пониманием своей ответственности за совершенствование человеческой природы. Такую ответственность невозможно воспитать на основе прямолинейного морализирования. Она формируется в ходе поиска обучающимися тех форм самореализации, которые дают наиболее глубокое и устойчивое удовлетворение жизнью. Обсуждение и заключение. Модель университета Милля внесла вклад в формирование двух пониманий задач университета: формирование у студентов критического мышления (Р. Рорти) и формирование у них способности к экзистенциальному самоопределению (П. Джиббс). Своим пониманием миссии университета Милль напоминает современным членам университетских сообществ о важнейших непрагматических основаниях их совместной практики.
Социальная критика, социальная этика, высшее образование, миссия университета, индивидуальная самореализация, дж. с. милль
Короткий адрес: https://sciup.org/147218318
IDR: 147218318 | УДК: 172 | DOI: 10.15507/2078-9823.042.018.201802.184-196
Текст научной статьи Дж. С. Милль: философское исследование миссии университета
Специальная литература, посвященная современному состоянию университетов, полна рассуждений о глубочайшем кризисе этого учреждения и даже его смерти, прикрытой от поверхностного наблюдателя инерционными процессами, происходящими на руинах. Диагнозы постоянно сопровождаются прогнозами – предсказаниями его дальнейшей судьбы. Осмысление этой судьбы часто становится не темой социо- логических исследований или историкокультурологического анализа, а предметом философского обсуждения. Дело не только в том, что философы – в значительной своей части преподаватели университетов и члены университетских сообществ, а значит, не могут не формировать свой профессиональный взгляд на происходящее. Это побочное обстоятельство. Гораздо более существенно то, что судьба университета – это такая проблема, которую невозможно обсуждать исключительно в научно-аналитических категориях. Вопрос о том, какими должны быть высшие формы образования, тесно связан с вопросами о том, каким должно быть наилучшее (хорошее) общество и каким должен быть человек, пытающийся прожить полную и достойную жизнь. В связи с этим рассуждение о миссии и перспективах университета всегда переходит границы узкого образовательного контекста, вырывается в область предельных целеполаганий, в которой оно пытается обрести исходные посылки. Социологические и исторические исследования могут обнаружить основные тенденции происходящего с университетом. Исследования, связанные с возможностями институционального дизайна, могут очертить инструментарий университетских новаторов и университетских консерваторов (а равно новаторов и консерваторов, которые стремятся воздействовать на университет извне). Однако ответ на вопрос о том, каким тенденциям в образовательной практике университетов следует сопротивляться, а какие следует воспринимать как приемлемые изменения, всерьез зависит от проекции в эту практику тех или иных философских обобщений.
Осмысление судьбы университета актуализирует различные модели или обобщенные образы этого учреждения. Они чрезвычайно разнообразны. Одни были выдвинуты как проекты, реализованные или не реализованные в действительности, другие – как попытки обобщить устойчивую практику и определиться с контурами status quo, третьи – как результат стремления отразить опыт происходящих изменений, четвертые – как вдохновляющие или поддерживающие надежду утопии. Одни модели обсуждаются уже не первое столетие, другие – появились в последние десятилетия или даже годы. При этом некоторые модели, такие, как модель исследовательского университета Вильгельма фон Гумбольдта [1], модель университета интеллектуальной культуры Генри Ньюмана
[3], модель мультиверситета Кларка Керра [9] или модель предпринимательского университета Бертона Кларка [2], имеют сотни, если не тысячи, сторонников и интерпретаторов, а другие, такие, например, как модель экологического университета Рональда Барнетта, известны лишь специалистам по философии образования [5, c. 141–151]. Мне представляется, что эта совокупность моделей должна превратиться в важнейший предмет для анализа, поскольку в рамках таких моделей с предельной ясностью и определенностью обозначены возможные цели университетского образования со стоящими за ними ценностями, а также проведена более или менее скрупулезная инвентаризация средств их достижения. Программа выхода университета из кризиса не может сложиться без тщательного изучения и соотнесения между собой таких моделей.
Среди исторических моделей или образов университета, получивших определенный отклик в философии высшего образования, но не сформировавших устойчивый и плотный шлейф интерпретаций, присутствует модель, предложенная философом, стоящим в первом ряду британских мыслителей – Джоном Стюартом Миллем. Затрагивающие эту модель исследования немногочисленны. Часть их посвящена выявлению общих контуров мил-левской философии образования или отдельных ее аспектов, поэтому тема университета присутствует в них в качестве периферийной [8; 13; 14]. Другая часть нацелена на создание общей картины дискуссий об образовании в Викторианскую эпоху, поэтому фигура Милля оказывается в них лишь одним из предметов обсуждения [15]. Однако, по моему глубокому убеждению, какая-то часть целеполагания университета, или его миссии (и при этом часть, которая нередко выпадает из поля зрения многих современных исследователей этого учреждения), нашла очень яркое выражение именно у Милля. В данной статье предпринимается попытка реконструировать миллевскую концепцию университета и выявить ее значимость для современных дискуссий о назначении университета и его дальнейшей судьбе.
Методы и материалы
Исследование, стоящее за текстом этой статьи, носило двухфокусный характер. Это определяет специфику его методологии. В качестве историко-философского оно опиралось на ряд приемов толкования текста, среди которых выявление отправных посылок и основных линий аргументации той или иной философской концепции, установление взаимосвязей между способами решения ее автором разных теоретических проблем, фиксация фундаментальных метафор, использующихся мыслителем, соотнесение терминологического ряда и аргументации различных его произведений, определение главных направлений, по которым культурно-исторический контекст творчества философа оказывал влияние на его идеи. В качестве социально-этического исследование опирается на анализ структуры общественных институтов в свете двух сложных и пересекающихся друг с другом ценностных комплексов. Один связан с идеями общественного блага и хорошего общества. Общественные институты под углом зрения, создаваемым этими идеями, призваны обеспечивать максимально возможное качество жизни членов общества с учетом пропорционального распределения этого блага между отдельными людьми и сменяющими друг друга поколениями. Другой ценностный комплекс связан с индивидуальным совершенством, которое включает в себя моральную чувствительность и различные проявления творческой самореализации. В этой перспективе к общественным институтам предъявляется требование формировать оптимальную среду для развития гармоничных творческих личностей, чувствующих свою ответственность за происходящее с другими людьми (как ближними, так и дальними), другими живыми существами и природой. Одним из центральных общественных институтов, устройство которых моделируется в соответствии с этими ценностными ориентирами, является система общественного образования (в частности, высшего).
Непосредственным предметом анализа (историко-философским материалом) данного исследования является комплекс идей, высказанных Миллем в инаугурационной речи при вступлении в должность почетного ректора университета Сент-Эндрюс (1 февраля 1867 г.). Это позднее произведение Милля было создано им в связи с тем, что он, уже будучи известным политическим деятелем и публичным интеллектуалом, был выдвинут в качестве одного из кандидатов на этот пост. Выдвижение Милля активно обсуждалось в университете, а также в шотландской и английской прессе, где столкнулись сторонники и противники его кандидатуры. Милль воспринимался публикой в качестве радикального политического реформатора и атеиста, наследника Вольтера и Юма, что не могло не вызвать возмущение консерваторов. Однако, несмотря на доводы противников его избрания, Милль получил большинство голосов на выборах, а затем удостоился теплого приема со стороны слушателей более чем двухчасового выступления, которое было позднее издано как небольшой самостоятельный трактат [10].
Результаты
Миллевская модель университета и миллевское понимание миссии этого учреждения включают в себя описание совокупности задач университета (раскрытых далее в пунктах А и Б), характеристику направлений университетского образования и свойственного каждому из них образовательного содержания (пункт В) и, наконец, указание на истоки индивидуальной значимости обучения в университете, анализ которых заставляет дополнять и уточнять его задачи (пункт Г).
-
А. Совершенствование человеческой природы.
Специфика понимания Миллем задач университета определяется его убежденностью в том, что смысл существования университетов не связан непосредственно с подготовкой эффективных специалистов в конкретных областях практической деятельности и конкретных сферах теоретического познания. Этот тезис он рассматривает как объединяющий все разнонаправленные понимания миссии университета. Милль довольно строго разводит между собой профессиональную подготовку и то, что он называет «образование в собственном смысле слова». Профессиональная подготовка является завершающим этапом специально организованного, институционализированного процесса получения знаний и навыков («верхним пределом общего образования») [12, с. 218]. Ее проходят люди, которые имеют «сильнейшие индивидуальные стимулы» заниматься определенным видом деятельности и уже выбрали в связи с этим свое жизненное предназначение, тогда как образование (как начальное, так и высшее) имеет более общие корни: это некие обязанности общества в целом, а также обязанности его членов, взятые независимо от их предрасположенности к тому или иному виду труда (объект и содержание этих обязанностей мы рассмотрим позднее). Милль специально подчеркивает, что университет дает профессионалу не профессиональные знания, а нечто иное, но при этом не менее важное для успешной профессиональной карьеры: «Профессионалы должны вынести из университета… что-то такое, что будет направлять использование ими профессиональных знаний и вносить свет общей культуры, освещающий технические подробности их специализированного рода занятий» [12, с. 218].
Смысл университетского образования состоит не в том, чтобы получить на выходе компетентного медика, юриста или инженера. Оно формирует особое качество человеческого сознания, которым может обладать компетентный профессионал и которое придает его практике те черты, в развитии которых крайне заинтересовано общество. Проходя через университетские курсы, будущий медик, юрист или инженер превращаются в «философских» медиков, юристов, инженеров. Под «философским» профессионалом Милль имеет в виду того, который отталкивается от общих принципов своей деятельности, а не загромождает память отдельными деталями [12, с. 218]. Такой специалист видит в своей деятельности не просто ремесло, а пространство применения и развития своих познавательных способностей. Происходящая в ходе университетского образования трансформация сознания будущего профессионала имеет и второй аспект. Она касается не только способов использования знания при построении им своей практики (того, что Милль называет «разумом» или «способностью к пониманию» (intelligence)). Университетское образование имеет мощное воздействие на сферу ценностных убеждений, или на совесть (conscience). «Разумность и добросовестность» применения профессионалом своих познаний зависят, по Миллю, от того, «какой тип способности к пониманию и какой тип совести сформировала [у него] общая система образования» [12, с. 218].
Миссия университета встроена у Милля в глобальное видение исторического процесса, в котором происходит самосовершенствование человечества – «прогрессивная эволюция» человеческой природы, осуществляющаяся за счет усилий сменяющих друг друга поколений. Образование per se, или общее образование, определяется Миллем в этом контексте как «культура, которую каждое поколение намеренно передает тем, кто станет его преемниками, для того чтобы сохранить и, если возможно, повысить уровень развития, достигнутый к настоящему моменту» [12, с. 218]. Задача университета как части такого образования состоит в том, чтобы сохранять доступность «сокровищ человеческой мысли» для каждого последующего поколения и представлять эти сокровища в виде различных курсов, нацеленных на «усиление, облагораживание, очищение и украшение нашей общей природы и оснащение человечества всеми необходимыми интеллектуальными инструментами, которые необходимы для осуществляемой им работы» [12, с. 220]. Это обобщенное понимание задачи университета Милль сопровождает важными оговорками, связанными с конкретизированным пониманием межпоколенческих обязанностей, но эти оговорки я планирую обсудить в том пункте данного раздела, который будет посвящен направлениям и содержанию университетского образования.
Б. Формирование «просвещенной публики».
Благотворный эффект университетского образования имеет отношение не только к приданию дополнительного качества профессиональному труду, но и к формированию того, что Милль называет «просвещенной публикой». Этот слой общества находится в центре внимания миллевской социальной этики. Именно он позволяет обществу уверенно идти по пути прогресса. Под «просвещенной публикой» Милль подразумевает «группу людей с развитым интеллектом, каждый из которых на основе достижений в своей специализированной области понимает, что такое действительное знание, и обладает достаточным знанием о других предметах, чтобы распознать тех, кто знает их лучше всего» [12, с. 223]. Без нее общество находилось бы в состоянии перманентной неопределенности в отношении знания и «либо не имело никакой веры в свидетельства науки, либо было бы постоянно готово превратиться в жертву шарлатанов и самозванцев» [12, с. 233].
Свойства и способности просвещенной публики приобретают наибольшее значение, когда речь идет не об отвлеченном познании, а о принятии важнейших для общества решений. Только присутствие в обществе этого слоя, а вернее, его широта и влиятельность, могут обеспечить такую ситуацию, при которой общественно значимые решения принимаются на основе подлинно научного знания и всестороннего учета всех факторов, имеющих отношение к делу. Когда речь идет о собственной сфере компетенции человека, принадлежащего к просвещенной публике, он выступает как эксперт, который предлагает способы коллективного действия. Когда речь идет о других сферах знания и практики, он превращается в обладающего достаточной степенью компетентности сторонника или противника таких предложений. Во втором случае представители «просвещенной публики» играют решающую роль в формировании «общественного мнения» («они способны направлять и совершенствовать общественное мнение по величайшим проблемам практической жизни») [12, с. 224]. А университетское образование дает им интеллектуальные ресурсы для того, чтобы играть эту роль, и право на то, чтобы ее играть.
Примечательно, что обсуждая «управление государством и гражданское общество» как наиболее сложные предметы познания, Милль подчеркивает: для успешной деятельности недостаточно богатого жизненного опыта, информации, относящейся к какой-то специальной науке, или даже добротного общего знания фактов жизни. Для получения приемлемых результатов в этой сфере необходима общая способность к пониманию, натренированная в применении принципов и правил здравого мышления к постоянно меняющимся обстоятельствам. Именно она позволяет человеку проявлять себя компетентным гражданином, т. е. «гражданином-мыслителем», а не «сле- пым последователем какой-то партии» [12, с. 224]. И именно она служит важнейшим объектом культивирования в процессе университетского образования.
В инаугурационной речи Милль неоднократно подчеркивает две ключевые способности и одновременно две ключевые обязанности того человека, которого университетское образование превращает в представителя просвещенной публики. Это способность и обязанность формировать мнение по ключевым вопросам, а также способность и обязанность формировать его недогматически, на основе собственного мышления. Первый момент особенно ярко проявляется при обсуждении Миллем изучения в университете международного права. Милль утверждает, что человек, «чей голос и чьи чувства формируют часть общественного мнения», не должен «успокаивать свою совесть самообманом, что он не причиняет никому вреда, если не принимает ни в чем участия и не формирует никакого мнения. Дурным людям для достижения их целей ничего больше не надо, кроме того, чтобы хорошие смотрели и ничего не делали. И поэтому не будет хорошим тот человек, который, не протестуя, позволяет совершаться несправедливости от его имени и с использованием тех средств, которыми он снабдил [злодеев] в силу того факта, что не озаботился приложить свой разум к данной проблеме» [12, с. 247].
Второй момент хорошо высвечивает обсуждение Миллем вопросов религиозного и политического образования в университете. В этих областях главным результатом университетского образования является развитие у студентов способности к независимой разумной оценке – «способности выносить суждение в отношении конфликтующих мнений, которые предлагаются нам [другими людьми] в качестве самых важных истин». В религиозных вопросах университет не «говорит, во что надо верить, и не заставляет принять веру как обязанность… но помогает нам формировать наши собственные религиозные убеждения тем способом, который достоин разумных существ, стремящихся к истине, чего бы это ни стоило» [12, с. 250]. В вопросах политики, где нет «знатоков», за которыми можно было бы просто следовать, университет также не предлагает «мнений опирающихся на авторитет установившейся науки», а дает материал, позволяющий обсуждать различные проблемы в научном духе. В конечном счете выпускник университета должен быть человеком, способным на основе рационального рассуждения выбирать, быть ли ему «тори, вигом или радикалом», и до какой точки ему следует идти с каждой из этих партий [12, с. 234].
-
В. Содержание и направления университетского образования.
Милль часто называет университетское образование «общим». И это существенно уточняет его мысль о том, что университет является хранителем и транслятором «сокровищницы знаний». Конкретизация роли университета в совершенствовании человеческой природы и выполнении долга одного поколения перед другим приводит Милля к выводу о том, что не любое достоверное знание должно входить в университетские программы. Прежде всего, это касается знания профессионального. Оно не возникает в университете и не входит в образовательное содержание, передаваемое в нем. Причина этого как в том, что его освоение не развивает у человека тех способностей, которые призван создавать и поддерживать университет, так и в том, что профессиональное знание не является частью тех вещей, передача которых потомкам превращается в долг каждого поколения. От него, по мнению Милля, не зависят «цивилизация и ценность» обладающего им поколения [12, с. 218].
Несколько иная ситуация складывается со знанием, которое имеет высокоспециализированный характер, но не относится к профессионально-практической сфере.
Оно, без сомнения, входит в «сокровищницу», одним из хранителей и распорядителей которой является университет. Оно представляет собой предмет межпоколенческих обязанностей. Однако это знание не формируется в университете и не передается в нем таким образом, чтобы студент непосредственно и глубоко мог готовиться к исследовательской деятельности. Милль обсуждает связь «продвинутых исследований» и университетского образования, отмечает, что университетское образование может способствовать пробуждению интереса к ним, однако его итоговый вывод состоит в том, что в университете не так много «отправных точек» для погружения в «продвинутые исследования» [12, с. 247].
И это не предмет для сожаления, поскольку расширение числа таких точек создавало бы серьезную угрозу для реализации миссии университета, связанной с совершенствованием человеческой природы и с формированием просвещенной публики. Милль уверен, что полное погружение человека с университетской скамьи в какую-либо специализированную область познания создает те же негативные антропологические эффекты, на которые Адам Смит указывал в связи с технологическим разделением труда. Явной аллюзией на смитовский трактат «Исследование о природе и причинах богатства народов» звучит следующее наблюдение Милля: «Каждая наука и искусство оказываются расчленены на подразделения, пока доля каждого человека, область, которую он знает досконально, не будет находиться примерно в том же отношении ко всему комплексу полезного знания, в каком искусство надевания булавочных головок находится ко всей сфере промышленности» [12, с. 223]. Если университет не сформирует у специалиста-ученого широкого интеллектуального горизонта, то тот лишится всякой ценности вне узкого круга своей специализации. В его лице сама «человеческая природа будет все больше и больше измельчаться и становиться негодной для великих свершений» [12, с. 223]. Такое состояние хуже обыкновенного невежества. Оно не просто ослабляет просвещенную публику, уменьшая число ее членов, но и превращает формируемое ею общественное мнение в менее объективное. «Нет такого исследовательского вида деятельности, который, если он практикуется в изоляции от всех остальных, не сужал и не извращал бы мышление его представителей, не плодил бы у них особый класс предрассудков, свойственных именно этому виду деятельности» [12, с. 223].
В основной части своей речи Милль осуществляет последовательный экскурс во все виды знания, достойные, по его мнению, быть представленными в общем университетском образовании. При этом он откликается на дискуссию между «консерваторами», которые привязывали университетское образование к изучению классического наследия (древних языков и античной культуры), и «реформаторами», которые видели в нем способ ознакомить учащихся с современными достижениями частных наук. Милль указывает на смысловую пустоту этого спора. Реализации основной задачи университета, по его мнению, могут способствовать как то, так и другое образовательное содержание при их должном оформлении.
Так, изучение древнегреческого и латыни, являющееся ключом к проникновению в наследие античной культуры, Милль считает важнейшим компонентом университетского образования, но не потому, что оно знакомит с основаниями нашей собственной культуры или с непревзойденными шедеврами слова и мысли, а в силу того, что оно расширяет сознание обучающихся в университете. «Пока мы не получим знаний о других народах, мы до самого смертного часа будем обладать интеллектом, который расширился лишь наполовину» [12, с. 226]. Вне знаний о других культурах свои соб- ственные привычки и идеи, а также знакомые с детства институты воспринимаются как проявления самой по себе человеческой природы. Расширение интеллекта происходит в тот момент, когда изучение культурного Другого приводит к мысли, что элементы его образа жизни «могут быть правильными или в той же мере правильными, как и мои собственные» [12, с. 226]. Античная культура является при этом идеальным культурным Другим: не тождественным европейцу XIX в., но и не «абсолютно отличным» от него, как культуры Востока.
Научное образование играет иную роль. В нем существенно, не простое знание фактов, касающихся природы и общества, а знакомство с методами получения истинного знания и методами проверки знания на истинность. Изучая в университете различные науки, студент знакомится с двумя направлениями научной деятельности – наблюдением и рассуждением. При этом математические науки: а) дают первое представление о взаимосвязанной совокупности истин, внутри которой невозможно оспорить одну их них, не поставив под вопрос остальные, б) обеспечивают понимание правил, на исполнение которых опирается эффективное рассуждение, в том числе понимание роли первых посылок и последовательных, отграниченных друг от друга шагов [12, с. 236]. Науки о природе формируют представление о том, как рассуждение соединяется с опытом в ходе открытия законов, направляющих множество фактов [12, с. 236]. Чем бы ни занимался в дальнейшем человек, познакомившийся с науками о природе и узнавший из них, как интерпретируется опыт, он приобретает способность интерпретировать опыт в собственной сфере деятельности. Для обобщенного понимания методологии наблюдений и рассуждений ключевую роль играет логика, изучение которой в университете Милль, несмотря на некоторые современ- ные ему веяния, считал необходимым [12, с. 238–240]. Науки об обществе, среди которых Милль выделяет философию истории (сама история, по его мнению, должна быть выведена из университетских учебных планов), международное право и политическую экономию, являются наиболее близкими к выполнению основных функций просвещенной публики [12, с. 243–247].
Кроме обрисованного выше «интеллектуального» образования, включающего в себя классическую и научную составляющую, университет призван осуществлять образование «моральное» и «эстетическое». Однако эта часть миссии университета будет проанализирована в следующем пункте.
Г. Истоки индивидуальной значимости университетского образования.
Инаугурационная речь является не только аналитическим исследованием общественной роли университета и реконструкцией оптимального содержания университетского. Она представляет собой вдохновляющее послание к тем, кто учится и учит в университете. В связи с этим Милль апеллирует к мотивам, без которых университетское образование потеряло бы для студентов индивидуальную значимость. В этом состоит смысл патетической концовки миллевской речи и подводящих к ней двух последних фрагментов обсуждения отдельных направлений университетского образования.
Итак, студент университета мыслит себя «частью публики, которая приветствует, поощряет и продвигает будущих интеллектуальных благодетелей человечества», или одним из этих благодетелей. Он готов развивать высшие способности своего разума, преодолевая спонтанные раздражение и скуку, поскольку сосредоточен на высшей цели университетского образования – превращении студентов в «умелых воинов в никогда не утихающем противоборстве Добра и Зла», в людей, способных «справляться со все новыми и новыми проблемами, которые заставляет решать постоянно меняющееся направление человеческой природы и человеческого общества» [12, с. 256]. Откуда берется эта сосредоточенность? Милль считает, что она опирается на естественную человеческую предрасположенность, поддерживаемую уважением к истине. Любой обыкновенный или среднестатистический человек в раннем возрасте обнаруживает в себе «желание благого, правильного, клонящегося к благу всех». И если у него сформируется глубокий интерес к знанию и прямота суждений, то это желание с большой степенью вероятности станет его сознательным убеждением [12, с. 247]. Однако идеальный университет Милля не просто полагается на этот естественный процесс. В нем присутствует специальное моральное образование. Его центральная часть связана с тем, что Милль называет «преобладающим тоном места». Погружение в среду, где все окружающие, особенно преподаватели, «проявляют презрение к низким и себялюбивым интересам и благородное стремление оставить мир лучшим, чем они его обнаружили», приводит к формированию возвышенных чувств [12, с. 248]. Определенную роль играет и непосредственное преподавание этики, которое, по Миллю, не должно превращаться в защиту отдельных философских доктрин. Оно демонстрирует студентам важность «правил поведения, которые выгодны для всего человечества» [12, с. 248].
Не менее, а может быть и более важным для формирования убеждений человека «просвещенной публики» является эстетическое образование, поскольку именно оно способствует превращению служения добру из обязанности в потребность. Эстетическое образование делает из эгоистов, ограничивающих себя требованиями долга, людей, которые любят все благое и возвышенное (в том числе «любят добродетель, чувству- ют, что она является целью самой по себе, а не налогом, заплатив который, можно преследовать иные цели») [12, с. 254]. Неисполнение моральных обязанностей в эстетической перспективе выступает не только предосудительным, но и унизительным для человека. И что еще более важно, унизительным является не только причинение кому-то вреда или совершение несправедливости, но и отсутствие благородных целей и устремлений [12, с. 254]. Только в этой перспективе возможна жизнь, нацеленная на улучшение человеческой природы, а значит, и на реализацию задач университетского образования. Эстетическую перспективу в отношении нравственных целей собственной жизни, по Миллю, формируют разные виды искусств, но в первую очередь поэзия, изучению которой в университете должно уделяться первостепенное внимание.
Линию рассуждения, связанную с превращением моральных целей в самостоятельный объект устремлений, Милль продолжает в патетической концовке речи. Здесь он пытается показать, что высшая цель университетского образования находится в той точке, где собственное благо индивида, его счастье, сливается с благом всего человечества. Собственное благо, о котором говорит Милль, не является каким-то земным или небесным вознаграждением, отличающимся от деятельности познания и ее общественно значимых следствий. Это благо тождественно самой деятельности, а вознаграждение «неотделимо от того факта, что кто-то его заслужил» [12, с. 257]. Как и в некоторых других своих произведениях [11, с. 145–146], в инаугурационной речи Милль прибегает к рассуждению, опирающемуся на так называемый парадокс гедонизма: наибольшее удовольствие можно получить только в том случае, если признать что-то в мире не просто источником удовольствия, а объективной ценностью и получать удовольствие от служения ей. Участие в совершенствовании человеческой природы на основе знания представляет собой именно такой источник удовольствия. Оно позволяет поддерживать большую глубину и большее разнообразие интересов в жизни. В то время как «все личные цели становятся менее ценными по мере нашего продвижения по жизни, эта цель не только продолжает сохранять свою значимость, но и постоянно увеличивает ее» [12, с. 257].
Обсуждение
В современной философии высшего образования идеи Милля оказываются востребованы теми теоретиками, которые полагают, что университет призван, прежде всего, поддерживать особый «модус» индивидуального существования, а уже потом выполнять все иные функции. Пожалуй, самым известным из них является британский философ Пол Джиббс. Джиббс считает миллевское наследие настолько важным для философии образования, что одну из своих работ стилизовал под текст воображаемой статьи, написанной неким автором к 300-летию инаугурационной речи Милля в университете Сент-Эндрюс [6]. При этом он несколько смещает акценты, расставленные Миллем в этой речи, насыщает предложенную в ней программу элементами, которые представлены в других его произведениях, и переосмысляет полученный идеальный образ высшего образования в категориях хайдеггерианского аутентичного существования [7, с. 40–43, 48]. В итоге деятельность университета или функционирование системы высшего образования, которые, по мнению Джиббса, должны выходить за традиционные университетские рамки, оказываются тесно связаны с особым пониманием индивидуального счастья. Задача высшего образования здесь состоит именно в том, чтобы предоставить людям пространство и время для рефлексивного самоопределения к счастью. Это своего рода дар общества своим членам, которым они должны ответственно распорядиться. Пространство самоопреде- ления не может возникнуть внутри поточного, массового обучения, но оно не складывается и при уединенном размышлении. Отсюда вытекают некоторые особенности университетской образовательной практики, которая не может полностью подчиняться требованиям быстроты и эффективности освоения знаний и умений. В ней всегда будет нечто непрактичное, ускользающее от количественных, формализованных методов оценки [7, с. 248–250].
Следует отметить, что выстраивая концепцию высшего образования на основе философского наследия Милля, Джиббс сосредоточивается лишь на двух ключевых идеях инаугурационной речи. Это неприятие университетского образования как преимущественно профессионального и связь этого образования со стремлением сохранить наиболее глубокий и наиболее устойчивый интерес к жизни. Однако такое избирательное отношение к миллевской модели университета ведет к тому, что некоторые задачи высшего «общего» образования, принципиальные для Милля, остаются под спудом. Как мы увидели выше, университет, с точки зрения Милля, является школой активных членов общества, глубоко вовлеченных в общественный дискурс. Индивидуальноперфекционистская линия его рассуждений переплетена с линией общественно-политической, с тем, что в современных исследованиях миссии университета принято выражать в виде формулы «университет – школа критического мышления». В этом отношении прямая линия от миллевской речи ведет не только к идеям Джиббса, но и к пониманию общественной роли университета Ричардом Рорти и Анри Жиру. Как заметил Рорти в работе «Образование как социализация и как индивидуализация» (1989), высшее образование играет, по преимуществу, критически индивидуализирующую функцию. Оно совмещает специализированную подготовку студентов к профессио- нальной деятельности с провоцированием у них творческого поиска самого себя (selfcreation) [13, с. 123]. Причем важнейшим фокусом такого провоцирования является обсуждение недостатков, провалов, нереализованных возможностей того общества, к которому принадлежат обучающиеся, а также – обсуждение «слепых пятен» в самоопи-саниях этого общества. Рорти ищет корни своей концепции в теории демократии Джона Дьюи, однако для любого исследователя философии высшего образования очевидно, что идея «просвещенной публики» Милля – очень существенный и заметно более ранний шаг в развитии той же традиции.
Выводы
Оценивая значение модели университета, предложенной Миллем в его инаугурационной речи, следует заметить, что по некоторым направлениям Милль оказался не самым удачным предсказателем тенденций в развитии этого феномена современной культуры. Через 150 лет университет находится в иных отношениях с профессиональной под- готовкой и научно-исследовательской деятельностью, чем те, которые предполагались миллевской моделью. Однако в рамках этой модели британский мыслитель подчеркнул значение ряда непрагматических ценностей университета, которые на сегодняшний день находятся под угрозой в связи с внедрением в университетскую жизнь экономических императивов и менеджериальных практик управления. Ответственность университета за межпоколенческую трансляцию достижений человеческой цивилизации, его роль в формировании компетентных участников общественно-политического дискурса, его воздействие на жизненное (а не профессиональное) самоопределение студентов трудно выразимы в экономических категориях и показателях. Но они задают не менее важные задачи, чем те, которые определяются ролью высшего образования и университетской науки для роста и структурного преобразования национальных экономик или сформированы вполне законным стремлением университетов адаптироваться к изменениям на рынке труда.
Список литературы Дж. С. Милль: философское исследование миссии университета
- Гумбольдт В. фон. О внутренней и внешней организации высших научных заведений в Берлине // Неприкосновенный запас. - 2002. - № 2 (22). - C. 5-10.
- Кларк Б. Р. Создание предпринимательских университетов: организационные направления трансформации. - М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2011. - 240 с.
- Ньюмен Дж. Г. Идея Университета. - Минск: БГУ, 2006. - 208 с.
- Anderson E. John Stuart Mill: Democracy as Sentimental Education // Philosophers on Education: Historical Perspectives / ed. by A. O. Rorty. - London: Routledge, 1998. - P. 333-351.
- Barnett R. Being a University. - New York: Routledge, 2011. - 200 p.
- Gibbs P. Happiness not Salaries: The Decline of Universities and the Emergence of Higher Education // Thinking about Higher Education / ed. by P. Gibbs, R. Barnett. - New York: Springer, 2014. - P. 37-53.
- Gibbs P. Should Contentment Be a Key Aim in Higher Education? // Educational Philosophy and Theory. - 2017. - Vol. 49, № 3. - P. 242-252.
- Gustafson A. Art and Poetry as the Basis of Moral Education: Reflections on John Stuart Mill's View, with Application to Advertising and Media Arts Today // Teaching Ethics. - 2005. - Vol. 6, № 1. - P. 1-14.
- Kerr C. The Uses of the University. - Cambridge: Harvard University Press, 1982. - 204 p.
- Mill A. J. The First Ornamental Rector at St. Andrews University: John Stuart Mill // Scottish Historical Review. - 1964. - Vol. 43, № 136. - P. 131-144.
- Mill J. S. Autobiography // Mill. J.S. Collected Works of John Stuart Mill. - London: Kegan and Paul, 1981. - Vol. 1. - P. 1-290.
- Mill J. S. Inaugural Address Delivered to the University of St Andrews // Mill J. S. Collected Works of John Stuart Mill. - London: Kegan and Paul, 1984. - Vol. 21. - P. 215-257.
- Rorty R. Education as Socialization and as Individualization // Philosophy and Social Hope. - New York: Penguin Books, 1999. - P. 114-126.
- Ryan A. J. S. Mill on Education // Oxford Review of Education. - 2011. - Vol. 37, №. 5. - P. 653-667.
- White R. The Anatomy of a Victorian Debate: An Essay in the History of Liberal Education // British Journal of Educational Studies. - 1986. - Vol. 34, № 1. - P. 38-65.