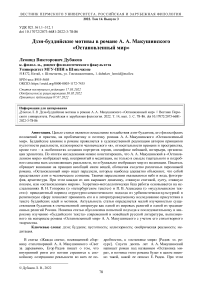Дзэн-буддийские мотивы в романе А. А. Макушинского «Остановленный мир»
Автор: Дубаков Леонид Викторович
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является осмысление воздействия дзэн-буддизма, его философских положений и практик, на проблематику и поэтику романа А. А. Макушинского «Остановленный мир». Буддийское влияние в романе проявляется в художественной реализации автором принципов пустотности реальности, иллюзорности человеческого «я», относительности времени и пространства, кроме того - в особенностях создания портретов героев, специфике пейзажей, интерьера, организации хронотопа. По итогам исследования можно констатировать, что А. А. Макушинский в «Остановленном мире» изображает мир, воспринятый в медитации, не только в смысле тщательного и подробного анализа всех составляющих реальности, но и буквально изображает мир из медитации. Писатель обращает внимание на принцип всеобщей связи вещей, обозначая сходство различных персонажей романа. «Остановленный мир» ищет параллели, которые наиболее адекватно объясняют, что собой представляет дзэн и человеческое сознание. Такими параллелями оказываются небо и вода, фотография, архитектура. При этом каждая из них выражает динамику, ставшую статикой, суету, ставшую покоем, или «остановленным миром». Теоретико-методологическая база работы основывается на исследованиях В. Н. Топорова (о «петербургском тексте») и П. В. Алексеева (о «мусульманском тексте»): прецедентный перевод структурно-семиотического подхода из урбанистически-культурной в религиозную сферу позволяет применить его и к литературоведческому исследованию присутствия в тексте буддийских идей и мотивов. Актуальность статьи определяется малой изученностью существования буддизма в отечественной литературе как одной из мировых религий и одной из традиционных религий России. Новизна статьи обусловлена попыткой подхода к последовательному и широкому изучению «буддийского текста» современной и новейшей русской литературы, выполненного на материале романа «Остановленный мир» А. А. Макушинского с учетом его стихотворного творчества.
Дзэн, буддизм, пустотность, иллюзорность, онейрическая реальность, медитация
Короткий адрес: https://sciup.org/147238644
IDR: 147238644 | УДК: 821.161.1-312.1 | DOI: 10.17072/2073-6681-2022-3-78-86
Текст научной статьи Дзэн-буддийские мотивы в романе А. А. Макушинского «Остановленный мир»
важно, что основа этой поэтики имеет в том числе религиозные корни: прежде всего, речь идет о дзэн-буддийских размышлениях и практиках автора, о чем он сам много пишет в романе. Однако, помимо поэтики, дзэн-буддизм оставил след и в других составляющих «Остановки мира».
Так, в частности, этот роман имеет сложную тематическую структуру. Помимо того, что «Остановку мира» можно охарактеризовать как любовный роман или роман об искусстве, в контексте данного исследования нужно обратить внимание на то, что он повествует о духовных путях русских и зарубежных буддистов, включая автора и одного из главных героев, а также об истории существования – медитационных практиках, проблемах и распаде – одного из немецких дзэн-буддийских сообществ (сангхи). Каждая из этих тем не существует сама по себе, так как, по неоднократно повторяющемуся в книге выражению автора, «всё как-то со всем связано в мире», «всё со всем соотносится», «одно отзывается в другом и перекликается с третьим» [Ма-кушинский 2018: 7]. Как пишет Д. Т. Судзуки, один из классических дзэн-буддийских авторов XX в., в своей книге «Введение в дзэн-буддизм»: «факты нашего повседневного опыта неразрывно связаны со всем бытием» [Судзуки Д.: эл. ресурс]. И поиск и обнаружение этой связи оказываются одним из двигателей сюжета «Остановленного мира».
Главный герой романа Виктор повторяет судьбу Шестого патриарха дзэн-буддизма в части осмысления им иллюзорного существования своего «я» и его ухода в мир. Это сближение схоже с параллелью между Лидой и Шестым патриархом в романе «Монограмма» А. Л. Иванченко. Но там, где у Иванченко имеет место таинственное и полное совпадение Лиды и Шестого патриарха [Иванченко 2005: 376], Макушин-ский сконцентрирован на отдельных пересечениях судеб героя и Шестого патриарха и схожести решаемых ими проблем.
Виктор разгадывает коаны, заданные ему его учителем. Один из этих коанов – это классический коан, восходящий к стихам Шестого патриарха о подставке, зеркале и пыли: «Нет никакого дерева Бодхи (в других переводах: у Просветления нет дерева), ясное зеркало нигде не стоит (или: у зеркала нет подставки); поскольку изначально ничего не существует, где же может осесть пыль?» [Макушинский 2018: 66]1, – оказывается Виктором решен. Другой коан – о поиске своего подлинного лица – Виктору не дается: ответы оказываются за пределами концептуализированных решений. Кроме того, Виктор, всё далее продвигаясь в медитации по пути дзэн, сталкивается с преградой привязанности: от- вергнуть внешние «лицо, личико, личность, личину» (356), снять коркообразную кожуру китайской сливы, личи, заглянуть под чачван Гюльча-тай из «Белого солнца пустыни» – фильма, виденного в детстве, забыть о сыгранном им в школе Самозванце из «Бориса Годунова», «теряться в созерцании любимого лица» (400) – все эти синонимические вещи упираются в необходимость оставить в прошлом любимых, лишить их, как кажется Виктору, бытийности. И решение этой проблемы остается за пределами произведения.
Отдельно стоит отметить, что подобные фонетические и смысловые стяжения (лицо, личико, личина и т. д.) вообще характерны для письма Макушинского. Поэтический по сути прием, в его прозе имеющий вид уточнения, поиска подходящего слова, становится одним из элементов организации ритма романа и предлагаемого им способа смотрения на реальность: внутреннее зрение останавливается на том или ином физическом или абстрактном феномене и фиксирует его предельно подробно и точно. Согласно определению Егора Радова, это «медитативное описание» [Радов: эл. ресурс]. Макушинский, используя игру слов, создает емкие образы, выражающие буддийскую проблематику. Так, Виктор, говоря о «я» и заикаясь в волнении, невольно порождает образ ящера, хвост которого, архаичного и хищного, это человеческое эго: «У нас у всех хвосты, и какие! не остатки нашего эго, а вот такие, говорил Виктор, по-прежнему показывая руками огромное что-то, в-вот такие эгищи, такие вот я, такие я-я-ящеры» (602). Образ паронимических «облачных областей души» (403) для Виктора – характеристика его внутреннего мира, памяти о близких, того, с чем он не хочет расставаться на дзэнском пути.
Проблема иллюзорности «я» – одна из главных буддийских проблем романа. А. А. Маку-шинский обозначает ее в эпиграфе к первой части «Остановленного мира», приводя цитату из Ф. И. Тютчева: «О, нашей мысли обольщенье, / Ты, человеческое Я» [Тютчев 1980: 123]. При этом, как часто это бывает и у А. Л. Иванченко, классический литературный текст оказывается если не оспорен, то перекодирован, и тютчевское романтическое стихотворение «Смотри, как на речном просторе…» в контексте романа прочитывается как буддийский текст, в котором отдельное бытие, иллюзорные отличия разных «я» в финале пути теряют свою значимость: «Все вместе – малые, большие, / Утратив прежний образ свой, / Все – безразличны, как стихия, – / Сольются с бездной роковой!..» [там же: 122]. То же позже происходит и со строками из тютчевского же стихотворения «Тени сизые смести- лись…»: «Дай вкусить уничтоженья, / С миром дремлющим смешай!» [Тютчев 1980: 81]. Строки Ф. И. Тютчева охарактеризуют и способ понимания истины в дзэн-буддизме: ее умом не понять и аршином не измерить (70). В романе будут процитированы строки из стихотворения Д. Руми «Конечно, смерть завершает страдания жизни…» (в переводе А. Макушинского): «Потому что там, где пробуждается любовь, / умирает Я, тёмный деспот» (793), – которые и для автора (по словам автора), и для главного героя будут много значить и которые, несмотря на укорененность в восточном мистицизме, будут прочитаны сквозь буддийское мировидение.
Эпиграф ко второй части «Остановленного мира» также связан с литературой. Макушин-ский вспоминает фрагмент письма Л. Н. Толстого к А. А. Фету от 28–29 апреля 1876 года, их «“домашние” понятия» [Самойлова 2007: 93]: «…настоящие люди, с которыми я сходился в жизни, несмотря на здравое отношение к жизни, всегда стоят на самом краюшке и ясно видят жизнь только оттого, что глядят то в нирвану, в беспредельность, неизвестность, то в сансару, и этот взгляд в нирвану укрепляет зрение» [Толстой 1978: 447]. В письме от 30 января 1873 г. тому же адресату Л. Н. Толстой писал о нирване так: «О Нирване смеяться нечего и тем более сердиться. Всем нам (мне, по крайней мере, я чувствую) она интереснее гораздо, чем жизнь, но я согласен, что, сколько бы я о ней ни думал, я ничего не придумаю другого, как то, что эта Нирвана – ничто. Я стою только за одно – за религиозное уважение – ужас к этой Нирване» [там же: 421–422]. Чуть ранее, в первой части, в главе «Одумайтесь!», Макушинский осмысляет расхождения в переводе и понимании Толстым работы Соэна Сяку «Буддистский взгляд на войну». Там, где речь шла о необходимости видеть даже на войне недифференцированную, не отделяющую одну личность от другой глубину, Толстой увидел отделение правых от неправых и апологию войны: «как будто никогда не существовало христианского и буддийского учения о единстве человеческого духа, о братстве людей, о любви, сострадании, о неприкосновенности жизни человеческой» [Толстой 1904: 57]. Кроме того, во время сессина и мытья посуды в медитативной сосредоточенности на буддийском хуторе автор вспоминает эпизод из «Анны Карениной», где Левин при косьбе с мужиками ощущает некую внешнюю, внесознательную силу, которая управляет их работой [Толстой 1970: 215]. Л. Н. Толстого автор вспоминает и в связке с И. А. Буниным, обозначая схожую внесубъек-тивную эстетизацию мгновений земной жизни, «зарниц счастья» (308), у того и другого. Подоб- но А. Л. Иванченко, А. А. Макушинский обнаруживает у Толстого и Бунина аспекты восточного мировосприятия. Вспоминая Толстого и других писателей, автор как бы проговаривает укорененность буддизма в русской культуре.
Как и для А. Л. Иванченко (цикл эссе «“Homo Mysticus”. Сутры солнечного удара»), для автора «Остановленного мира» литература становится частью духовного пути писателя [Иванченко]. Но, в отличие от Иванченко, Макушинский выбирает путь только писателя: он превращает строки О. Э. Мандельштама из стихотворения «Равноденствие» [Мандельштам 1993: 103] в мантру, и они ему оказываются «всякого буддизма важней, и всякого дацана нужней» (74). Выбирая между сатори и хорошим стихотворением, он выбирает второе (205–206); говоря о буддизме ушедшего от творчества фотографа Ф. Дртикола, автор замечает, что «хотел бы писать до последнего дня своей жизни» (242). А. Л. Иванченко говорит о соединении религиозного и художественного творчества, ищет срединный путь между различными метафизическими молчаниями творца, для автора «Остановленного мира» дзадзэн – это просто в том числе возможность «домолчаться» до слов, до творчества, нечто, что еще и способствует концентрации сознания. Вместе с тем автор в романе отмечает, что тот, кто стремится стать художником, пытается обрести свободу от «я», от эгоизма, и это схоже с тем, кто старается находиться в состоянии присутствия и просто наблюдать (235). Тина, вспоминая Анри Картье-Брессона, говорит, что «забвение себя самого», «свобода от собственной жизни способна придать <…> снимкам» (298) необходимую простоту выражения.
Герои романа, включая автора, долгие годы идут буддийским путем. Речь не только о немецкой буддийской сангхе, которую возглавляет Боб и вместе с которой Виктор проделал множество комплексов медитаций, сессинов, но и о ленинградских знакомых автора, что открыли для себя дзэн еще в Советском Союзе. И Васька-буддист, и Дима-фотограф спустя годы отошли от буддизма, но в каком-то смысле остались в нем. Первый, по замечанию автора, оказался чужд современной петербургской реальности, несмотря на успешный бизнес, и, как и раньше, снимал с себя «незримую паутинку» (60) (возможный образ буддийской пустотности), второй не оставил своего увлечения флейтой сякухати: когда он начинал играть, то один единственный звук создавал «вокруг себя свою собственную, почти зримую тишину» (73). Игра на флейте сякухати в дзэн-буддизме является вариантом практики, суйдзэном, «духовым дзэном», которая позволяет достичь самореализации. И сам автор по- прежнему делает дзадзэн. Дзэн-буддизм был их вариантом внутренней свободы при недостатке свободы внешней: дзэн звучал как «счастливая, радостная, даже весёлая, пожалуй, мелодия, совсем неожиданная посреди уже почти привычной серости и мрачности мира» (24).
Другой аспект осмысления буддийских путей интеллигенции Советского Союза в «Остановленном мире» – это мотив преемственности поколений русских буддистов. Виктор пришел в буддизм через Ваську-буддиста, и он, и Дима-фотограф в настоящем времени удивляются поворотам его, «трепетного мальчика», судьбы в Европе и в буддизме. Виктор пошел в дзэне так далеко, как когда-то мечтали советские буддисты восьмидесятых, он оказался их естественным продолжением и в каком-то смысле оправданием.
Буддийские пути в романе – это также ложные пути. Например, история Барбары, в дзэне которой оказалось, вероятно, меньше духовных устремлений, чем любви к учителю, или история Герхарда, много знающего о буддизме, но фальшивящего внутри дзэна своей сутью, своими сансарическими амбициями. В «Остановленном мире» присутствует множество актуализирующихся связей и параллелей, одна из них – некоторое сходство между «буддийствующими девицами» Ленинграда и «дзэнствующими папашами, буддийствующими мамашами» (196) Германии и Барбарой, ставшей внешней причиной раскола Бобовой сангхи, а также предающимся самолюбованию интеллектуалом Геннадием и гордецом и завистником Герхардом, который читал лекцию «без намёка на Ген-наадиеву сладость и сахарность» (574) и который стал внутренней причиной этого раскола. И в целом А. А. Маку-шинский показывает в романе разных буддистов, в том числе создавая иронический образ «буддийско-банковского клуба» (378) Франкфурта, в который приглашают Виктора. Самои-роничный автор видит несоответствие религиозного позиционирования и результатов дзэн-буддийской практики многих персонажей, исключая Боба, Китагаву-роси, Виктора, костяка Бобовой сангхи.
Помимо этого, образ буддизма в «Остановленном мире» создается за счет осмысления его национальных версий – европейской (немецкой и испанской) и российской, а также версий ленинградской и московской. Автор с Тиной посещает Дацан Гунзэчойней и отмечает разницу между ним и германским дзэнскими храмами: «В самом храме все показалось мне экзотическим, очень чуждым, ничуть не похожим на те дзенские заведения, которые доводилось мне видеть в Германии, с их простотой, пустотой, чистотой, однозначностью их порядка <…> Здесь все было какое-то сдвинутое, словно только что переставленное, переложенное со своего правильного места – но где оно? – на другое, случайное. А так оно и всегда бывает в России (я думал); буддизм здесь, может быть, даже и ни при чем. Всего было много, и все было пестрое, золотое и красное – подушки, циновки» (735). При этом осмотр и описание дацана перебивается чтением памятной таблички «Деятелям науки и культуры, жильцам и гостям дома», которая висит возле храма и на которой наряду с ламамами и буддологами упомянут Д. И. Хармс. Автор далек от русского буддизма (ранее он отвергнет мысль о поездке в Ивол-гинский дацан), но пассажи, связанные с дацанами, оказываются у него соединенными с русской литературой. О. Э. Мандельштам вспоминается в связи с Иволгинским дацаном, глаза выхватывают Д. И. Ювачёва в связи с Дацаном Гунзэчой-ней. Отрицая эстетику русского буддизма, автор фиксирует его связь с русской культурой и его трагическую ноту. Вместе с тем для автора «прохладная ироничность дзэна чем-то <…> созвучна надменно-печальной ироничности петербуржцев» (51), в отличие от Москвы, которая для автора совсем не буддийская [Мандельштам 1990: 177] «(вопреки любимым стихам)» [Макушинский 2018: 91] О. Э. Мандельштама (о буддийских мотивах в поэзии О. Э. Мандельштама и, в частности, в стихотворении «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...» см. статью Э. Мачерет «О некоторых источниках «буддийской Москвы» Осипа Мандельштама») [Мачерет 2007: 166–187]: у А. А. Макушинского иной, чем у Мандельштама, набор культурных и литературных ассоциаций в связи с буддизмом. И всё же он к нему постоянно возвращается: осы на Елагином острове, кружащиеся вокруг растений, напоминают автору мандельштамовских узких ос из стихотворения «Вооружённый зреньем узких ос…», что преодолевают смерть и сон в своем проникновении к земной оси, и эта ассоциация приводит автора к мысли о пустоте, что находится за феноменами (94–95). Сам он, впрочем, при этом сомневается, что его интерпретация пустоты совпадает с буддийской.
Буддийское измерение в романе «Остановленный мир» имеет и подход к созданию портретов персонажей. У Виктора – «буддистская синева голого черепа» (13) (дело здесь не только в обритых волосах на манер буддийских монахов, но и в связи Виктора через синеву с образом неба как зеркала сознания в медитации: «абсолютное состояние ума» – «чистое небо самадхи» (129)). То же у Димы-фотографа, цвет глаз которого меняется от серого до голубого и рифмуется с «голубым сиянием гор» (73) возле Иволгинского дацана.
Характерен для портретов в романе и мотив исчезновения человека. Так, Виктор, как и Боб, оказывается «прозрачным», похожим на стеклянные часы, поскольку его просветление, по определению автора, подобно «высветлению» внутренних «уголков, закоулков» (433). Портрет Боба переходит в речевую характеристику (его слова приходят из тишины), а та превращается в горный снежный пейзаж: человек словно растворяется в пустоте. Фотография Д. Т. Судзуки – «с взвихренными бровями, готовыми улететь за край кадра» (61), а значит, как бы оказаться в пустоте.
Принцип «всеобщей связи вещей» романа реализуется и в портретном сходстве отдельных персонажей. Так, например, сосед буддийской сангхи во Франкфурте – старик, брови которого своим «лихим разлётом» (180) напоминают автору фотографию Судзуки. При этом в «Остановленном мире» много литературных и философских сравнений: у Васьки-буддиста «толстовский нос на лице отчасти <…> гоголевском» (182); Герхард похож на Гейдеггера, а бармен в кафе возле музея Гёте – на них обоих; Герхард похож на Гейдеггера и вместе с ним – на Гитлера; на буддийском хуторе присутствует «гётеобразный Вольфганг» (472), богатый адвокат, «дядька с брюсовской бородкой» (137), отец Тины смотрит на послевоенное фото через «фришевские очки» (438) и т. д.
В главе “Lifestyle” во Франкфурте у фонтана «резвящиеся девицы» соседствуют с «гигантскими гологрудыми девами» (385), а над ними «в зеркалах небоскрёбов» плывут «скульптурные облака» (386). Люди в «Остановленном мире» словно получают иллюзорный статус, оказываясь связаны и со скульптурой, и со «скульптурными» облаками, теряя безусловность собственной телесности.
Можно говорить и о буддийском пейзаже «Остановленного мира». Один из главных образов – образ неба. Небо в романе – образ дзэн-буддизма: «только свобода, огромный воздух, огромный ветер свободы – и какое-нибудь лёгкое облачко, плывущее по лазоревому чистому небу» (40). Буддизм оставляет свои знаки на небе, и автор видит «дзэнские иероглифы неба» (44), «каллиграфические упражнения заката» (43).
Небо в романе является метафорой человеческого сознания (другой такой образ – образ реки), небо без облаков – это образ реализованного пробуждения: «Когда ты достигаешь несомненного Пути, по ту сторону всех стремлений, то это как бескрайнее небо, великолепное и пустое» (148), на самом деле «…нет пути, нет познания, нет достижения, есть только бескрайнее небо, великолепное и пустое» (195), – небо с облаками отражает сансарические интеллектуальные и эмоциональные движения героев: «чувства и мысли должны прейти во мне, как облака по небу, как волны и рябь по воде, как отражения и отблески по поверхности того зеркала, которое оттирал я от пыли» (134). «Дзэнский май» автора и его езда на велосипеде по пустынным дорогам Балтики сопровождается «сиянием, громождени-ем облаков» (46). «Царственные балтийские облака» (48) перемещаются по небу во время перечитывания автором дзэнских записей. «В стеклянном слепящем свете» (69) неба всё искрится после занятий дзэном, и ветер выметает мысли из головы автора. Медитация автора над «бодяком и мордовником» сопровождается «акварельными неспешными облаками» «в блеклом широком небе» (95). Ручей возле «францисканско-дзэнского монастыря» отражает «небо, сияние облаков, синеву между ними» (106), вызывая в авторе ощущение покоя. Автор в медитации управляет облаками своих мыслей и устанавливает связь с тем, что «за ними, под ними, с этой чистотой, пустотой, этим зеркалом» (134). «Мысли, как светлые облака, проходили по счастливому небу» (184) во время медитации. Беспокойные мысли Виктора не проходят «в нём, как облака по небу или как рябь на реке» (364). Виктор «впускает в себя <…> сияние неба над соснами <…> это белое пухлое облако <…> над горным невысоким хребтом» (535), практикуя сохранение осознанности. Над ним же в часы сомнений «облака неслись по небу, смятые ветром» (594). В последнюю, прощальную встречу автора и Виктора «громадные, рваные, клокастые, языкастые фиолетово-чёрные тучи бродили над рекой» (674), и такие же тучи (и такую ментальную проекцию) словно оставляет за собой Виктор, которого автор и Тина позже будут искать в Испании. В комической окантовке образ неба появляется в пассаже о студентах автора: те на его лекциях витают в мыслях и облаках и просто отсутствуют на занятиях. Возможность буддийского прочтения обозначена и иронически отвергнута.
Причем образ облаков в небе может многократно умножаться: во время стирки в ручье, в нем отражаясь, «полоскались облака», стиральный порошок уплывал «взрывчатым облачком», русалка «облачалась» (49) в рубашку. Две метафоры и игра слов создают параллель к сознанию автора, что пытается в медитации отпустить поток своих сцепленных мыслей. Позже, вновь в медитации, автор «сбоку и сверху» смотрит на своё отчаяние – «как в своё время на речку-вонючку с её облачками стирального порошка и облаками небесными» (103). «Россыпи изумрудных облаков» проявляются в «зеркальных про- долговатых, под разными углами повёрнутых друг к другу окошках небольшого <…> небоскрёба» (456). А. А. Макушинский устраивает сложную оптику отражений (учитывая еще, что на этот небоскреб, вероятно, смотрит и плачущая Тина), и иллюзия троекратно усиливается. То же – в Лиссабоне, где идет дождь, и автор, пребывая в состоянии сонливости, скользит по булыжнику на «отражённых витринах» (765). Размышления автора о Праджня Парамита Хри-дая сутре, о том, что слово «парамита» означает не только добродетель, но и переправу – через реку или море иллюзий, а праджня, мудрость, запредельна словам и концепциям, оказываются параллельны ночному франкфуртскому пейзажу. В Майне отражаются многочисленные огни, в том числе «верхние окна ближайших небоскрёбов» (190), и глубина реки становится непроницаемой для глаз (снова сложная оптика, усиливающая иллюзорность реальности).
Сам по себе Франкфурт для автора – «вертикально-зеркальный город, где вечно что-нибудь отражается в чём-нибудь: один небоскрёб в другом небоскрёбе и облака во всех сразу» (518): иллюзорность реальность – основная примета этого города, который был почти полностью разрушен в войну. Почти таким же предстаёт в романе и другой город: в «стеклянном, слепящем свете» (69) полярно-яркого солнца Петербург «искрится», «полыхает» и «горит». Лиссабон кажется автору «восстающим из вод видением, фата-морганой» (790).
Принцип «всеобщей связи вещей» реализуется не только в том, что одни персонажи похожи на других персонажей или других людей, но и в сходстве отдельных пространств. Так, вязы на московском бульваре, что «врастали в воздух, в пустое пространство» (43), похожи на «в синее небо врастающий» кипарис в китайском дворе, который «так же обладает и не обладает природой Будды» (43). Поездка на трамвае в Португалии напоминает автору такую же поездку в Ленинграде: вокруг тот же дождь и тот же булыжник.
Снежный пейзаж возле японского дзэнского монастыря напоминает Виктору пейзажи возле Токсово и Сестрорецка: внешние ландшафты наплывают друг на друга и становятся ландшафтом внутренним, внешний мир становится пространством психического. То же происходит с автором в одном из перерывов во время сессина на буддийском хуторе: внешний ландшафт становится «ландшафтом молчания» (43). Сияние вещей возле буддийского хутора видится Виктору «отсветом какого-то иного, огромнейшего сияния» (366), духовным пейзажем.
В «Остановленном мире» можно обнаружить буддийский интерьер. Автор лежит на «гори- стой, скалистой, уже прямо непальско-тибетской кровати» (178). Обстановка комнаты Виктора из-за её аскетичности описывается автором как «Буддистское Ничто, перенесённое в повседневность» (511).
Мотив сна, онейрической реальности – еще один сквозной образ «Остановленного мира», уходящий корнями в буддизм. Автор периодически говорит, что находится в состоянии сна и испытывает пробуждение. Так, на экскурсии он рассматривает конференц-павильон Тадао Андо и отмечает, что это здание разбудило его, хотя он и не спал, что он почувствовал «толчок пробуждения» (17–18). Случайная встреча с Васькой-буддистом на книжной ярмарке рождает у автора мысль о том, что «всё, что происходит с нами, есть только часть и фрагмент одного невероятного сна» (472): человек пребывает в иллюзии и в лучшем случае лишь осознаёт, что спит, – а после рождает вопрос: зачем «снится мне этот пятидесятилетний издатель» (475)? Проповедь Боба о неведении помещена в главе под названием «Вы спите, а вам надо проснуться», позже, в Португалии, автор, повторив эту Бобову фразу, в медитации заметит, что наконец-то пробудился – «в смысле буквальном и не-буквальном, буддистском и не-буддистском» (781), и что это пробуждение есть преодоление жизни.
Остановка мира – это также принцип изображения. Так, петербургский денек, словно здание, «можно обойти с разных сторон, снять в разных ракурсах» (20). Не одни герои могут быть в медитации, но и мир вокруг них. Так, осы на Елагином острове кружатся над бодяком и морковником, «не прерывая своей медитации» (94). При этом автор отмечает, что осы и они с Васькой-буддистом – одно, поскольку смотрят на этих ос: субъект, наблюдающий объект, и объект неразделимы в буддийской философии.
В финале романа мир для автора и Тины остановился буквально: «Замер сухогруз, остановился паром. Замолкли голоса у нас за спиной» (791), – на момент, длящийся как щелчок пальцев или чуть дольше. Этот момент автор сравнивает с пребыванием в кадре фотографии.
Фотография, искусство фотографии, является в «Остановленном мире» одним из способов передать мировидение дзэн-буддизма. У автора нарушается визуальное восприятие (он роняет и разбивает очки), и благодаря этому ему удается разглядеть на фотографиях Димы не детали, а фон. Черно-белая фотография с домом в углу фото, что был поставлен «посреди ничего, посреди пустоты» (89) и создавал «вокруг себя свою собственную <…> тишину, пустоту» (90), – пример реализации принципов искусства дзэна. Монохромность исполнения концентрирует внимание зрителя на главном. Фон позволяет осознать не столько мастерство, сколько глубину работы. Несимметричность фотографии передает естественность, реальность. Одиночество дома напоминает об одиночестве того, кто уходит за пределы сансары [Судзуки Д.: эл. ресурс].
Фотографирование в романе – это то, что позволяет Виктору на миг обрести свое довременное лицо и увидеть такое лицо Тины. Тина, делая многочисленные фотоснимки женского тела, «словно всматривается в то, что саму её ждёт, всматривается без отчаяния, с отстранённым вниманием» (273). Это подобно буддийской медитации на неприглядное, каягатасати, что направлена на умиротворение чувственности. Тине оказалась понятна «аналогия между дзэнским стремлением совпасть с текучим, летучим, неуловимым и, следовательно, как бы несуществующим, как бы пустым настоящим – и стремлением фотографа это настоящее в его неудвои-мости, в его непрерывном исчезновении, поймать, ухватить, удержать» (314). Фотографирование как «умение забывать о себе, превращаться в чистое зрение – conditio sine qua non фотографии» (317) – подобно пребыванию в здесь-и-сейчас дзэн-буддизма.
Сон Тины, в котором она увидела мир как архив фотографий, что запечатлели реальность «в сотнях тысяч ракурсов» (663), оказывается точным образом, описывающим особенность буддийского восприятия: время, как и угол взгляда, относительны, в относительной реальности есть лишь субъективное увиденное настоящее.
В «Остановленном мире» много указаний на относительность времени. Эпиграф к роману – это высказывание дзэнского учителя Догена Дзендзи: «Время течёт из настоящего в прошлое». Парадоксальность этой фразы поясняется в комментарии в книге Судзуки Сюнрю «Сознание дзэн, сознание начинающего»: «Время постоянно идёт от прошлого к настоящему и от настоящего к будущему. Это так, но так же верно и то, что время идёт от будущего к настоящему и от настоящего к прошлому» [Судзуки C. 2000]. В нашем сознании единое время делится на три составляющих, и все три они одновременно в нашем сознании сосуществуют. Дзэн – это время здесь-и-сейчас, и другого времени нет: «…с дзэнской точки зрения <…> мгновение, это вечно длящееся, не иссякающее сейчас» (329).
Мир Советского Союза был «повёрнутым в будущее» (68), тогда как автору и Ваське-буддисту был важен «призыв к свободе – сейчас и здесь» (69). В медитации «время идёт не вперёд, но вглубь, или вообще никуда не идёт» (129), «Прошлое имеет свойство возвращаться к нам, оживать в настоящем» (183).
Можно отметить и относительность пространства в романе: «Мы расставляем события нашей жизни во времени, как предметы в пространстве» (97), – говорит автор, и он сам, и его герои провидят в одних пространствах другие, ими оставленные. А сами пространства часто теряют свою предметность: так, автобусы из гостиницы в Вейле-на-Рейне уезжают «в своё никуда» (217).
Итак, А. А. Макушинский, продолжая эксперименты русской литературы прошлого [Кинуё 2001: 13] и актуализируя философские и поэтические смыслы, настроения и формы дальневосточной литературы, активно обращается в романе «Остановленный мир» к дзэн-буддийским мотивам. Они проявляют себя в тематике и проблематике произведения, в организации системы персонажей, в образе автора и образах главных героев. Буддийские мотивы обнаруживаются в пейзажах, портретах, интерьерах и пространственно-временной организации романа. Писатель реализует в книге буддийские принципы пустотности, иллюзорности личности, относительности времени и пространства. Художественный мир романа подвижен и проницаем и стремится к самоотрицанию вследствие неоднозначного бытийного статуса. А. А. Макушинский обращает внимание прежде всего на философию и практику дзэн-буддизма, но одновременно в «Остановленном мире» демонстрируется специфика национальных версий буддизма, а именно то, как буддизм преломляется в сознании и поведении людей различных национальных культур. Важной составляющей романа оказывается мировая художественная литература, позволяющая автору выявить особенности буддийского мировосприятия.
Список литературы Дзэн-буддийские мотивы в романе А. А. Макушинского «Остановленный мир»
- Иванченко А. Л. Монограмма. М.: АСТ: СПб.: Астрель-СПб, 2005. 379 с.
- Иванченко А. Л. «Homo Mysticus». Сутры солнечного удара. Темные аллеи // Топос: сайт лит.-филос. жур. URL: https://www.topos.ru/article/3003 (дата обращения: 14.03.2022).
- Кинуё М. Художественное воплощение категорий философии дзэн в «Стихотворениях в прозе» И. С. Тургенева // Филологические науки. 2001. № 5. С. 13-20.
- Макушинский А. А. Остановленный мир. М.: Изд-во «Э», 2018. 800 с.
- Мандельштам О. Э. Собрание сочинений: в 2 т. М.: Худ. лит., 1990. Т. 2. 623 с.
- Мандельштам О. Э. Собрание сочинений: в 4 т. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993. Т. 1. 370 с.
- Мачерет Э. О некоторых источниках «буддийской Москвы» Осипа Мандельштама // Acta Slavica Iaponica. 2007. T. 24. P. 166-187.
- Радов Е. Жажда света // Газета Утро.Ру. URL: https://utro.ru/articles/2007/12/26/704776.shtml (дата обращения: 14.03.2022).
- Самойлова Г. М. Русская литература и дзэн-буддизм // Вестник Курганского государственного университета. Серия: «Гуманитарные науки». 2007. Вып. 3, № 2(10). С. 93-96.
- Судзуки Д. Т. Введение в дзэн-буддизм. URL: http://psylib.org.ua/books/sudzd01/txt33.htm (дата обращения: 14.03.2022).
- Судзуки С. Сознание дзэн, сознание начинающего / пер. с англ. Г. Богданова, Е. Кирко, Э. Семенова. 2-е. изд. М.: Сиринъ садхана, 2000. 232 с.
- Толстой Л. Н. Анна Каренина. М.: Наука, 1970. 911 с.
- Толстой Л. Н. Одумайтесь!: Ст. по поводу Русско-японской войны. Christchurch, Hants: «Свободное слов» A. Tchertkoff, 1904. 64 с.
- Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями: в 2 т. / сост., вступ. статья и примеч. С. А. Розановой. 2-е изд., доп. М.: Худ. лит., 1978. Т. 2. 479 с.
- Тютчев Ф. И. Сочинения: в 2 т. М.: Правда, 1980. Т. 1. 384 с.