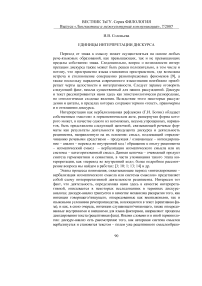Единицы интерпретации дискурса
Автор: Соловьева Ирина Валерьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 7, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120461
IDR: 146120461
Текст статьи Единицы интерпретации дискурса
ЕДИНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДИСКУРСА
Переход от знака к смыслу может осуществляться на основе любых рече-языковых образований, как превышающих, так и не превышающих пределы собственно знака. Следовательно, вопрос о возможности интерпретации дискурса также может быть решен положительно, в том числе и потому, что пространство языка становится пространством, где возможна встреча и столкновение совершенно разнопорядковых феноменов [9], а также поскольку парадигма современного языкознания неизбежно приобретает черты целостности и интегративности. Следует заранее оговорить следующий факт, весьма существенный для наших рассуждений. Дискурс и текст рассматриваются нами здесь как эпистемологически разнородные, но онтологически сходные явления. Вследствие этого некоторые рассуждения и цитаты, в пределах которых сохранен термин «текст», правомерны и в отношении дискурса.
Интерпретация как вербализованная рефлексия (Г.И. Богин) обладает собственным «местом» в герменевтическом акте, развернутая форма которого может, в качестве одного из возможных, весьма упрощенных, вариантов, быть представлена следующей цепочкой, связывающей речевые форматы как результаты деятельности продуцента дискурса и деятельность реципиента, направленную на их освоение: смысл, подлежащий опредмечиванию речевыми средствами – продукция / означающее – интендирова-ние – анализ – перевод во внутренний код / обращение к опыту реципиента – ноэматический смысл – вербализация ноэматического смысла или их системы – категоризованный смысл. Данная цепочка – очевидный продукт синтеза герменевтики и семиотики, в части упоминания такого этапа интерпретации, как «перевод во внутренний код»; более подробное рассмотрение вопроса мы найдем в работах: [3; 10; 1; 13; 14] и др.
Этапы процесса понимания, охватывающие период «интендирование – вербализация ноэматического смысла или системы смыслов» представляет собой схему интерпретативной деятельности реципиента. Интересен тот факт, что деятельность, определенная нами здесь в качестве интерпретативной, описывается в некоторых исследованиях в терминах дискурс-анализа; дискурс-анализ трактуется в качестве механизма раскрытия того, как интенции говорящего/пишущего, опосредованные как внеязыковыми, так и языковыми условиями речепроизводства, воплощаются в текст (креативная фаза), и как, в свою очередь, интенции слушающего/читающего, также опосредованные внутренними и внешними для языка факторами, направляют процессы декодирования текста (рецептивная фаза). Иными словами и в иной терминологии: дискурс-анализ есть рассмотрение того, как авторская система смыслов вербализуется и становится текстом – полем уже рецептивного смыслообразо-
ВЕСТНИК ТвГУ. Серия ФИЛОЛОГИЯ
___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация », 7/2007___ вания, формирования системы смыслов и метасмыслов, актуальных уже для реципиента [6: 88–93].
Процесс интерпретации дискурса во многом зависит от того, что представляет собой дискурс как речевой продукт, и с этой точки зрения он может быть описан и определен как процесс знания и говорения, с одновременным анализом представления, различением его элементов, установлением составляющих его отношений, возможных последовательностей, согласно которым его можно развивать: ум познает и говорит в том же самом своем движении, «посредством одних и тех же процессов учатся говорить и открывают или принципы системы мира, или принципы действий человеческого ума, т.е. все то, что является высшим в наших познаниях» [9: 120]. В дискурсе вырисовывается своего рода семиотический континуум – последовательность плавно переходящих друг в друга знаков, символов, текстов. Классическим примером континуума является цветовой спектр, где один цвет незаметно переходит в другой и невозможно установить границу между голубым и зеленым, красным и оранжевым цветами. Точно так же не очевидны границы между знаком и текстом, словом и предложением (устойчивые словосочетания, идиомы, поговорки – это слова, фразы или предложения? Лингвистика до сих пор не может дать однозначного ответа на этот вопрос). Спаянность семиотического континуума (смысловая его спрессованность) затрудняет выявление единиц анализа и классифицирования знаков в семиотических системах. Тем не менее мы не можем отказаться от препарирования семиотического континуума, ибо только таким путем возможно его познание [7: 51].
Сложность деятельности по продукции дискурса очевидна, из чего следует и сложность обратного процесса – понимания как «поворота вспять» речевого акта. Не только количественно-структурные характеристики, но и фактор континуальности выступают причиной сложности явления дискурса и деятельности по его пониманию и интерпретации.
Нуждается в решении вопрос о протяженности и составе минимального интерпретируемого речевого отрезка в пределах дискурса. Семиотика, семантика, когнитология и филологическая герменевтика предлагают различные подходы к решению этой проблемы.
Классическая точка зрения представлена в «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра в виде известной дихотомии: сущности (entité), и единицы (unité) языка. Сущности (entité), или же языковые факты, «определяются полностью лишь тогда, когда они отграничены, отделены от всего, что их окружает в звуковой цепи. Эти-то языковые сущности или единицы и противополагаются друг другу в механизме языка», а языковая единица не обладает никаким специальным звуковым характером «и единственным ее определением может быть следующее: отрезок звучания, являющийся, с исключением того, что ему предшествует и того, что за ним следует, “означающим” некоего понятия» [8: 105–106. – Курсив автора]. Эта мысль получила свое дальнейшее развитие в семиотике, в частности, при введении в терминологический обиход Р. Бартом понятия лексии как «оболочки семантической емкости» [1: 25]. Поскольку речь изначально идет о дискурсе, взятом в его наиболее «чистом» виде – потоке звучащей речи, форма предопределяет некоторые условия понимания содержания. Основным из этих условий является «наплывание» дискурса на реципиента, кто в результате оказывается в ситуации необходимости «членить исходное означающее на ряд коротких примыкающих друг к другу фрагментов, которые назовем лексиями, имея в виду, что они представляют собой единицы чтения... Объем каждой лексии будет колебаться от нескольких слов до нескольких предложений; это вопрос простого удобства, довольно и того, чтобы лексия представляла собой некое оптимальное пространство, позволяющее выявлять смыслы, ее протяженность, устанавливаемая эмпирически, будет зависеть от плотности коннотаций, неодинаковой в различных местах текста; нужно только, чтобы в каждой лексии присутствовало не более трех или четырех смысловых единиц» [Оp. cit.: 24].
Когнитивная лингвистика, представляющая интерпретацию в качестве процедуры, включающей процесс и одновременно результат в установлении смысла речевых и/или неречевых действий, усматривает основу интерпретирующей деятельности в логическом содержании пропозиций отдельных предложений – компонентов дискурса. Соответственно выдвигается идея членения интерпретируемого объекта на «опорные пункты», к которым он относят в тексте слова, конструкции, мысли и т.п. и на которые опираются при использовании инструментов интерпретации [4: 116, 122].
Несколько иначе проблему членения объекта интерпретации решают в филологической герменевтике. В качестве составляющей субстанциальной стороны понимания текста рассматриваются средства текстопостроения. «Сам по себе вопрос о средствах – вопрос сугубо филологический, поэтому в герменевтическом исследовании рассмотрение средств текстопостроения – лишь введение к анализу отношений между средствами и смыслами» [3: 78], т.е. к анализу содержания герменевтического акта. «Средства тексто-построения имеют безусловный “знаковый характер”. Они могут восприниматься так же, как воспринимаются все другие знаки, – оставаться незамеченными при тенденции замечать только содержания и смыслы. Они же могут восприниматься как ипостаси смыслов – например, смыслообразующая метафора запоминается лучше, чем тот смысл, который она образует. Этот … смысл не запоминается и не видится сам по себе: он легко усматривается и восстанавливается в условиях, когда средство текстопо-строения переживается как компонент содержательности – ипостась смыслов, как, впрочем, и ипостась содержаний» [Ibid. – Подчеркнуто автором].
В пределах методологии деятельности текстообразующие средства могут выступать в роли части онтологической конструкции, т.е. выполнять функцию интендируемых «мест» в этой конструкции, с той особенностью, что интенция (направленная рефлексия), реализуется в этом случае только в рефлексии, фиксирующейся только в поясе мысли-коммуникации (под- робнее об этом см. [11: 281–293]). Фиксация рефлексии именно в этом поясе иррадиирует и на два остальных пояса, поэтому в широком смысле можно говорить о текстообразующих средствах как средствах пробуждения рефлексии вообще [Ibid.]. Текст состоит из множества осмысленных микротекстов, (а дискурс – соответственно – из осмысливаемых) – и смыс-лообразование протекает от встречи со вторым микротекстом до встречи с последним. Весь этот процесс рефлективен; рефлективно, конечно, и его завершение, когда процесс застывает в результате (т.е. когда понимание превращается в знание и выступает как знание). Завершающий рефлективный акт ставит меня перед вопросом: «Что же я понял?», и я отвечаю на этот вопрос утверждением, которое в своих определениях обнаруживает процесс собственного становления. Иначе говоря, конечная рефлексия после прочтения целого литературного произведения есть рефлексия очень большого опыта, возникшего в процессе восприятия, понимания, смысло-образования, наращивания смысла, причем этот опыт складывается именно в процессе действий со множеством последовательных и логически взаимообусловленных микротекстов. Совершенно другой итог складывается при пренебрежении процессом понимания, когда практически вся работа рефлексии активизируется только при выходе к результату. Таково, в частности, эпифеноменальное понимание – одна из превращенных форм понимания. Здесь процедура резко отличается от нормальной. Человек читает микротекст за микротекстом, при этом декодируются знаки как носители значений [3: 52].
Последнее определение подводит нас к пониманию единицы интерпретируемого в дискурсе как интендируемого формата, т.е. особого вида деятельности субъекта, направленной на объект. Язык в таком случае рассматривается нами не только как знание (что предлагает гносеологический подход), но и как реальность. Оба эти понимания дополняют друг друга, так как «в структуре деятельности язык выступает в роли системы средств, обеспечивающих воспроизводство и трансляцию речевой деятельности» [12: 541]. Здесь возникает необходимость вновь обратиться к понятию герменевтического кода как одного из этапов развития герменевтического акта, поскольку это понятие в наибольшей мере конкретизирует взаимосвязь «лексия» – «деятельность»: «Задача герменевтического кода заключается в выделении таких (формальных) единиц, которые позволяют сконцентрировать, загадать, сформулировать, ретардировать и, наконец, разгадать загадку (некоторые из этих единиц иногда отсутствуют, но чаще повторяются; строгий порядок их появления не обязателен)» [1: 30].
Представляя метафорически текст и дискурс в качестве пространства методологических операций, Р. Барт так демонстрирует текучесть и многообразие рече-языковых форм, подвергающихся интерпретации при рецепции как текста, так и дискурса: «Пространство текста-чтения во всех отношениях сопоставимо с классической музыкальной партитурой. Членение повествовательной синтагмы (учитывающее ее поступательное движение)
аналогично членению звукового потока на такты (первое едва ли отличается большей произвольностью, нежели второе). Семы, культурные цитации и символы эффектно звенят, громыхают и рокочут, напоминая гулкое, отчетливое звучание медных и ударных инструментов в оркестре. А вот загадки, разрешение которых все время оттягивается, а разгадка то и дело откладывается, напоминают скорее мелодию, выводимую духовыми инструментами: они складываются в плавный напев, украшенный руладами, арабесками и заранее предусмотренными ретардациями; развертывание всякой загадки подобно развитию фуги: у обеих есть определенная тема, подлежащая проведению, затем интермедия (образованная различного рода задержками, двусмысленными и обманными ходами, благодаря которым дискурс стремится как можно дольше сохранить свою тайну), стретта (интенсивная часть, где сосредоточены наметки возможных ответов) и завершение. И наконец, проайретические последовательности, поступь поступков, размеренность знакомых движений поддерживают, скрепляют воедино и гармонизируют целое наподобие струнных инструментов…. Иной раз мы одновременно слышим голоса всех пяти выделенных нами кодов, что до некоторой степени придает тексту множественное звучание (текст и вправду обладает свойством полифоничности); тем не менее только три из названных кодов (семный, культурный и символический) образованы взаимо-заменимыми элементами, только три из них обратимы и не подвластны временным ограничениям; элементы же двух других кодов (герменевтического и проайретического) выстраиваются в необратимые последовательности. Это означает, что классический текст в действительности имеет матричное (а не линейное) строение, но при этом в саму матрицу как бы заложен логико-временной вектор. Мы, стало быть, имеем дело с поливалентной, но не до конца обратимой системой. Обратимость классического текста блокируется тем же самым механизмом, который ограничивает его множественность. Этим механизмом, с одной стороны, является истина, а с другой – эмпирия, в противовес которым (или в промежутке между которыми) строится всякий современный текст» [1: 40–43].
Мы пришли к выводу, что знак в дискурсе отражает динамический объект, относящийся к внешнему миру. Однако и с этим связаны нерешенные пока вопросы (они не решены, в частности, в пределах семиотики, а не на интегративной основе). Эти вопросы закономерно ставит У. Эко: «Каким образом знак может отображать Динамический Объект, относящийся к Внешнему Миру, если “по природе вещей” он на это не способен? Каким образом знак может отображать Динамический Объект (Объект как он есть, объект, независимый от него самого [т.е. от самого знака]), если он может быть знаком этого объекта только в той мере, в какой этот объект сам обладает природой знака или мысли»? Как возможно связывать знак с объектом, если для того, чтобы распознать объект, необходимо иметь прежний опыт его восприятия, а знак не обеспечивает ни знакомства, ни распознания объекта?» [14: 320–321]. Поставив таким образом вопросы, автор, тем не менее, сам находит и ответы на них. Основой решения проблемы является сама идея значения, которая «включает в себя отсылку к цели. Все это становится яснее, если осознать, что так называемый скоти-стский реализм Ч. Пирса следует рассматривать с точки зрения его прагма-тицизма: Реальность это не просто Данное, но скорее Результат. Знак, вызывая ряд непосредственных реакций (энергетических интерпретантов), постепенно создает некую привычку (a habit), некоторую регулярность поведения у интерпретатора (или пользователя) этого знака. Поскольку привычка – это склонность вести себя сходным образом при сходных обстоятельствах в будущем, окончательный интерпретант знака и есть данная привычка. Иными словами, соотношение между значением и репрезента-меном приобретает форму закона (закономерности); с другой стороны, понимать знак – это значит (понимать и) знать, что надо делать, чтобы создать такую конкретную ситуацию, в которой можно обрести чувственный (перцептуальный) опыт того объекта, к которому отсылает данный знак [Op. cit.: 321].
Следовательно, разрабатывая основы интерпретативного подхода к дискурсу, следует вести речь о некотором или полном отходе от принципов структурализма, поскольку здесь–и–сейчас–пониманию присуща текучесть, моментальное схватывание значений и иных смыслоформирующих структур, непосредственное усмотрение «торчащих» из них кусков смыслов и/или их реализация в виде частных или категоризованных смыслов. При таким образом организованном процессе понимания дискурс вступает в отношения непосредственного, неразделенного во времени со-бытия и со-поставления с опытом реципиента, формируя пространство понимания. Возможно ли говорить о понимании, организованном в режиме линейного времени? «Чтобы достичь молниеносно-быстрого течения обыденной рефлексии, позволяющей усматривать по возможности всю субстанциальность понимаемого, надо пройти школу дискурсивной рефлексии, т.е. школу интерпретации» [2: 24].
Решение вопросов, связанных с интерпретативной деятельностью, направленной на дискурс, неотрывно связано со следующими задачами: 1) выявлением природы и степени трансформации семиозиса в контексте понимания дискурса; 2) анализом и описанием качественных характеристик герменевтики дискурса; 3) выявлением дискурсивных опор/форматов интерпретации при понимании/освоении смыслов дискурса.
Существуют плодотворные попытки решения перечисленных проблем путем моделирования речевой деятельности. «Главное теоретическое преимущество такого подхода состоит в том, что, анализируя дискурс как процедуру текстопостроения и смыслопорождения, исследователь-семиолог максимально приближается к предмету своего исследования – коммуникации» [6: 89]. Однако, создавая в процессе понимания единую ментальную модель дискурса, мы не можем быть уверены в правильности выбора самой модели из-за относительно бесконечного множества воз- можных положений вещей. (Ср. вопрос Витгенштейна, может ли один листок быть схемой для всех листьев или же он представляет собой всего лишь индивидуальную форму? Витгенштейн ответил, что может, но это зависит от того, как используется этот конкретный образец. Увы, он не рассказал нам, как именно конкретные образцы могут использоваться в этих целях.) Если бы нас интересовало, как абстрактный автомат строит модель дискурса, мы могли бы прибегнуть к ловкому теоретическому трюку: постулировать недетерминированное устройство, которое всегда строит правильные модели, т.е. указывает верный ответ посредством волшебства. Интерпретация дискурса, однако, зависит как от модели, так и от процессов ее построения, расширения и оценки. Единичная модель может символизировать бесконечное множество возможных моделей, потому что, хотя и строится только одна модель (основанная на ряде произвольных допущений), она может рекурсивно пересматриваться в свете последующего дискурса. Благодаря процессу рекурсивного пересмотра имитируется требуемый недетерминизм, поскольку этот процесс может произвести любые из возможных моделей, совместимых с данным дискурсом. Функции, строящие, расширяющие, оценивающие и пересматривающие ментальные модели, в отличие от функций интерпретации в теоретико-модельной семантике, не могут трактоваться абстрактно. Должны существовать эксплицитные алгоритмы для вычислений функций, отображающие пропозициональные репрезентации в ментальные модели. Из этого требования вытекает несколько важных следствий для психологических теорий значения, основанных на постулатах значения, семантических сетях и словарных статьях, производящих декомпозицию значения на элементы [5].
Герменевтика может вести речь о существовании алгоритмов, отображающих пропозициональные репрезентации в ментальные модели, лишь в терминах теории деятельности, тем более что постановка индивидуума в центр пространства понимания коренным образом меняет подход к проблеме истинностности. Что касается значения, в пределах дискурса оно приобретает свойство изменяться, развиваясь во времени, что создает коммуникативное напряжение в семиозисе. Значение представлено означающим как вещи, так и конкретного объекта (предмета), и поскольку речь уже шла о со-бытийности понимания протеканию дискурса, значение предстает в виде со-знания как знания о называемом объекте «здесь и сейчас». Это не означает отрицания существования значения как обозначение вещи, в том числе и в кантианском смысле, как чего-то, существующего вне и независимо от сознания, поскольку это является одной из философских основ понимания, обеспечивая саму его возможность за счет достижения общности освоения значений в отличие от существования значений как обозначений конкретных объектов.
Значение в дискурсе непосредственно связано со смыслом, поскольку осмысление дискурса идет по пути реализации значения. Смысл в наиболее общих чертах, взятый в каждый момент течения дискурса, предстает при интерпретации дискурса в трех ипостасях: 1) в виде реализованного значения в речевой цепочке; 2) в виде смысла, восстановленного на основе синтеза значения слова с синтаксической структурой, в пределах которой оно представлено в дискурсе; 3) в виде категоризованного смысла высказывания или его дроби (как часть содержательности текста). Отбор значений и принцип восстановления смыслов при понимании регулируется прагматически, вследствие чего возможность актуализации дополнительных контекстов и иных значений в процессе интерпретации дискурса может отсутствовать.
232 с.
гос. ун-т, 1995. – 38с.
ун-т, 1993. – 137 с.
256 с.