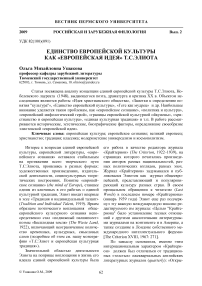Единство европейской культуры как «европейская идея» Т.С.Элиота
Автор: Ушакова Ольга Михайловна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 2 (2), 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу концепции единой европейской культуры Т.С.Элиота, Нобелевского лауреата (1948), выдающегося поэта, драматурга и критика ХХ в. Объектом исследования являются работы «Идея христианского общества», «Заметки к определению понятия "культура"», «Единство европейской культуры», «Гете как мудрец» и др. Наибольшее внимание уделяется таким проблемам, как «европейское сознание», «политика и культура», «европейский мифологический герой», «границы европейской культурной ойкумены», «христианство и европейская культура», «единая культурная традиция» и т.п. В работе рассматриваются исторические, эстетические, биографические факторы, определившие своеобразие элиотовской «европейской идеи».
Европейская культура, европейское сознание, великий европеец, христианство, традиция, классика, модернистские универсализм и космополитизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14728752
IDR: 14728752 | УДК: 82(100)(091)
Текст научной статьи Единство европейской культуры как «европейская идея» Т.С.Элиота
Интерес к вопросам единой европейской культуры, европейской литературы, «европейского сознания» оставался стабильным на протяжении всего творческого пути Т.С.Элиота, проявляясь в разных формах: художественных произведениях, издательской деятельности, социокультурных теоретических построениях. Понятие «европейское сознание» ( the mind of Europe ), ставшее одним из ключевых в его работах о единой культурной традиции, Элиот вводит впервые в эссе «Традиция и индивидуальный талант» ( Tradition and Individual Talent , 1919). Ярким образцом поэтического воплощения общеевропейского культурного сознания непосредственно стал «подвижный палимпсест» поэмы «Бесплодная земля» ( The Waste Land , 1922), включающий неограниченное количество временных, культурных, смысловых слоев (подробнее об этом см. нашу монографию «Т.С.Элиот и европейская культурная традиция»).
Значительной областью деятельности Элиота на поприще воплощения в жизнь его идеала единой европейской культуры была его работа в качестве редактора журнала «Крайтерион» (The Criterion, 1922–1939), на страницах которого печатались произведения авторов разных национальностей, разных политических взглядов, разных эпох. Журнал «Крайтерион» задумывался и публиковался Элиотом как журнал общеевропейский, представляющий и популяризирующий культуру разных стран. В своем прощальном обращении к читателю (Last Words) в последнем номере «Крайтериона» (январь 1939 года) Элиот еще раз подчеркнул эту важную международную миссию редактируемого им журнала: «Целью "Крайте-риона" было установление тесных отношений с другими аналогичными литературными журналами на континенте и в Америке, а также создание в Лондоне собственного международного интеллектуального форума» [The Criterion XVIII, 1967: 271].
По замыслу основателя, именно этим интернациональным характером «Крайтери-он» должен был отличаться от традиционных «толстых» ежеквартальных английских литературных журналов ( quarterly ): «Откры-
вая журнал, я преследовал цель свести воедино лучшее из того нового, о чем говорили и писали в свое время во всех европейских странах, вносящих тот или иной вклад в общее дело культуры» [Элиот 2004: 167]. В «Крайтерионе» сформировалось интеллектуальное пространство, на котором активно обсуждались проблемы, связанные с общеевропейской историей и культурой, значением западной цивилизации. В частности были опубликованы работы К.Доусона «Конец эпохи», Г.Мэссиса «Защита Запада», Дж.Флетчера «Восток и Запад», Р.Геппеншталя «Правда Запада», Дж.Ф.Хадсона «Профессор Тойнби и западная цивилизация» и др., рецензии на книги О.Шпенглера, Б.Кроче, К.Доусона и т.д.
Большая часть теоретических работ, посвященных проблеме единства европейской культуры, создана Элиотом накануне Второй мировой войны или непосредственно по ее окончании, на еще дымящихся руинах старой Европы. В своих лекциях под общим названием «Единство европейской культуры», поэт напомнил своим современникам, европейским литераторам, об их особой ответственности за сохранение и распространение общей культуры, что звучало особенно актуально в атмосфере ненависти и враждебности послевоенной Европы, с трудом приходящей в себя после кровавых глобальных распрей.
Политика как фактор разъединения, культура как средство объединения – таков один из основных тезисов Элиота, общественного деятеля и мыслителя. Политики сеют рознь между народами, ставя сиюминутные узконаправленные задачи, этой дезинтеграции должны противостоять деятели культуры, отстаивающие вечные общечеловеческие ценности. Элиот призывает «предохранить нашу общую культуру от загрязнения политическими веяниями» и «спасти то общее достояние, хранителями которого мы являемся: наследие Греции, Рима и Израиля и достояние Европы, создававшееся на протяжении последних двух тысяч лет. В мире, ставшем свидетелем такого материального опустошения, как то, которому мы подверглись, этим духовным богатствам также грозит неминуемая гибель» [Элиот 2004: 176].
Работы социокультурного характера, в которых Элиот разрабатывал концепцию единого европейского культурного пространства, стали регулярно выходить с конца 1930-х гг.: «Католичество и международный порядок» ( Catholicism and International Order , 1936), «Современное образование и классическая филология» ( Modern Education and the Classics , 1936), «Идея христианского общества»( The Idea of a Christian Society , 1939), «Заметки к определению понятия “культура”» ( Notes towards the Definition of Culture , 1948), «Единство европейской культуры» ( The Unity of European Culture , 1946), «Гете как мудрец» ( Goethe as the Sage , 1955) и др. Появление целого ряда серьезных, объемных работ можно объяснить и освободившимся от напряженной редакторской и издательской деятельности временем, определенным накопившимся опытом размышлений и обсуждений темы единой культурной традиции, особенностями исторической ситуации. Полемическим запалом ряда работ послужила критика сторонников глобальных политических проектов, типа всемирного правительства, всемирной федерации и т.п.
Существовали и другие, более глубокие причины такого пристального интереса Элиота к теме общеевропейской культуры. Стремление мыслить в глобальном культурном масштабе отражало общие эстетические установки модернистов, прежде всего их универсализм и космополитизм. Ощущение всеобщности, всеединства, взаимосвязи всего сущего характерно для многих представителей модернизма. Космополитизм модернистов также тесно связан с биографическим фактором, и что первично в данном случае (биография или эстетика) – вопрос спорный. Так, американцы Э.Паунд и Элиот «прижились» в Европе (хотя итальянский «патриотизм» дорого стоил первому); «Улисс» Дж.Джойса создавался в различных европейских городах, Цюрихе, Триесте, Париже, а сам автор так и не вернулся на родной зеленый остров; Д.Г.Лоуренс, самый «английский» из модернистских авторов, в 1919 году покинул Англию, роман «Любовник леди Чаттерли» писал во Флоренции; определение С.Беккета как «ирландско-французского» автора, безусловно, эффектно, но вызывает недоумение (действительно, «театральные приоритеты Беккета не всегда поддаются разграничению по национальным инвариантам» [Доценко 2005: 111]) и т.п. Попытки установить принадлежность Элиота к американской или английской литературной традиции в одинаковой степени как убеждают, так и вызывают несогласие, в зависимости от степени обоснованности и убедительности позиции исследователя. На самом деле, художника, сознательно вписывающего свое творчество в мировой культурный текст, трудно привязать к какой-то определенной национальной почве, даже если он на ней вырос.
Сам Элиот, понимая двусмысленность ситуации, осознавал стремление четко идентифицировать национальный статус своего творчества как проблему. В своем выступлении «Американская литература и американский язык» (1953) в Вашингтонском университете Сент-Луиса, основанном его дедом, поэт, обходя непростую тему, иронично замечает: «Только вот не знаю я, считать ли Одена английским поэтом или поэтом американским: для меня его жизненный путь поучителен, ибо помогает отвечать на тот же самый вопрос, когда его задают мне, а я ответствую: "Куда бы вы ни отнесли теперь Одена, я, вероятно, буду с другой стороны"» [Элиот 2002: 204]. Можно отметить, что поэт не был чувствителен к национальным барьерам, его экстерриториальность является как принципиальной, так и естественной: «культурные границы остаются, так и должно быть, открытыми» [Элиот 2004: 166]. Для него и американская, и британская культура – составные части общей европейской культуры, с едиными культурно-историческими истоками: «Только из-за наших общих истоков в литературах Греции, Рима и Израиля мы можем говорить о Европейской литературе; и если уж зашла об этом речь, скажу мимоходом, что будущее Европейской литературы напрямую зависит от того, насколько высоко мы будем почитать наших предшественников» [Там же: 383].
Рассуждая в работе «Гете как мудрец» о том, какие из поэтов могут быть названы великими европейскими поэтами, Элиот предлагает обсудить в качестве кандидатов в европейский пантеон Дж.Г.Байрона и Э.А.По: «В Байроне мы имеем поэта определенного поколения и через это поколение ставшего поэтом всей Европы. В лице Эдгара По Америка произвела поэта, который, благодаря своему влиянию на три последующих поколения, может считаться европейцем…» [Элиот 2004: 383]. И хотя «положение и ранг» этих поэтов продолжают оставаться предметом споров, и, следовательно, вопрос о присвоении им звания «Великого Европейца» остается открытым, тем не менее сама постановка вопроса отражает позицию Элиота, его концепцию европейской культурной ойкумены вне определенных географических границ. В этой же работе Элиот использует понятие «европейский мифологический герой» (a European myth-hero), выстраивая определенный ряд литературных героев, ставших достоянием всех европейцев: «В наше время Гамлет и Фауст стали европейскими символами. В этом они схожи с Одиссеем и Дон Кихотом, каждый из которых глубоко национален и одновременно близок всем нам. Есть ли больший грек, чем Одиссей, больший испанец, чем Дон Кихот, больший англичанин, чем Гамлет, больший немец, чем Фауст? И все же они вошли в наши души, все они помогли – и в этом роль таких фигур – познать европейцам самих себя» [Элиот 2004: 385]. Эта же идея двумя годами раньше была представлена на американском материале в уже упоминаемом выступлении в Сент-Луисе: в классическом ряду европейских архетипических персонажей фигурирует Гек Финн как своего рода «прототип в мифологии всего человечества» [Элиот 2002: 199]. А река Миссисипи у Марка Твена приведена в качестве примера «всемирной реки человеческой жизни» [Там же: 197].
Заявление британского исследователя Д.Муди о том, что Т.С.Элиот «с самого начала был европейцем» [Moody 1994: 15], абсолютно правомерно. И дело здесь не только в семейных европейских корнях поэта, его стремлении «вернуться домой». С этой точки зрения лейтмотив поэмы «Ист Коукер» – «в моем начале мой конец» – принимает личностно мистический, провидческий смысл: прах поэта упокоен в английском Ист Коукере, на земле его предков, откуда они когда-то выехали в Новый свет: «Дом – то, откуда выходят в дорогу» («Ист Коукер»).
Есть и более прозаические, но не менее важные, факторы. Один из них – классическое европейское образование, которое получил Элиот. В начале своего выступления «Американская литература и американский язык» поэт воздает должное системе образования своего времени, высказывая сожаление о закрытии школы, в которой он учился: «Это была хорошая школа. Там учили (теперь такое встречается все реже и реже) тому, что я считаю основами знаний: латинскому и греческому параллельно с историей Греции и Рима, английской и американской истории, основам математики, французскому и немецкому языкам. А также английскому!» [Элиот 2002: 186]. Не отсюда ли просветительский пафос многих социокультурных работ Элиота, в которых он активно вступает в борьбу за сохранение классического образования: «…культура Европы как таковой, – культура христианская, и наоборот – традиционная религиозная вера в Европе, включая Британию, не сможет сохранить своей интеллектуальной мощи, если среди учительского сословия не будет поддерживаться самый высокий стандарт изучения латыни и греческого» («Классическая филология и литератор», 1942, президентское обращение к членам Ассоциации филологов-классиков [Элиот 2004: 262]).
Еще одной причиной постоянного внимания к проблеме сути и специфики «европейскости» может выступать американское происхождение поэта. Не случайно, что именно Элиот и Паунд стали наиболее активными и влиятельными апологетами общей европейской традиции. Существование на географической периферии западной ойкумены, естественное осознание фронтира, ощущение жара плавильного котла, сжигающего корни традиций предков, обостряет интерес к культурной идентичности, стимулирует поиски общих истоков. Именно на пограничных линиях культурного пространства, в непосредственных точках пересечения цивилизационных пластов, тонких и хрупких на сгибах, возникают центростремительные настроения, «тоска по культуре». В данном случае неизбежна параллель с Россией, в которой дискуссии о своем месте в Европе имеют затяжной, хронический характер. Россия и Америка как периферий- ные, пограничные пространства играют особую роль в сохранении культурного единства Европы, что частично объясняет характерные для их национальной ментальности мессианские, культуртрегерские настроения.
Многие мысли Элиота перекликаются с размышлениями В.В.Вейдле о подвижности и разомкнутости границ Европы, о ее духовном единстве. Для этих двух художников и мыслителей, которых объединял, по выражению В.М.Толмачева, «особый тип эстетического консерватизма», было присуще глубокое, исполненное драматизма чувствование специфики европейской цивилизации, озабоченность ее судьбами. В книге «Задача России» (1956), в главе под названием «Границы Европы», Вейдле пишет: «Европа есть сложный исторический организм, подобный организму нации, а не что-то неподвижное, неменяющееся, навсегда застывшее в своих границах. Европа не безгранична, но границ ее не может указать ни территория, ни раса, ни язык, ни какой-либо другой заранее данный ее признак» [Вейдле 1956: 22 ] . Этот тезис, определяющий пафос многих работ Вейдле, непосредственно развивает идеи Элиота: «Европейская культура занимает некое пространство, но не имеет при этом определенных границ, а строить китайские стены мы бы не смогли» [ Элиот 2004: 115 ] .
Есть еще одна причина, повлиявшая на степень интереса обоих авторов к проблеме общеевропейской идентичности – это временной, исторический фактор. Две войны, Русская революция (Великая Октябрьская социалистическая революция), глобальные катаклизмы, носящие не меж-, а внутрици-вилизационный характер, поставили под вопрос существование подлинной общности, целостности и прочности европейской культуры. Не случайно Вейдле в «Умирании искусства» (1937) констатирует совпадение исторической катастрофы с катастрофой самого искусства, процесс культурного распада, призывая возродить веру во всеединство. Культурный изоляционизм, характерный для тоталитарных режимов прошлого века, вызывал зачастую противоположную реакцию, обострял сознание необходимости в полноценном культурном диалоге. В.Н.Топоров обращает внимание на эту особенность раз- вития культурного процесса, говоря о вы-страданности потребности в общении с мировой культурой О.Мандельштама: «Насильственное разъединение душ, прекращение обмена ценностями культуры, ее смыслами обрекают на немоту и безотзывность, которые, в свою очередь, парализуют душу культуры и ставят под удар идею братства людей – как исходного, данного человеку в самом начале его пути, естественного так сказать, природного, так и особенно того взыскуемо-го будущего, которое шаг за шагом создается культурной работой человека» [Топоров 1989: 6].
Американская культура не могла не быть для Элиота частью общей европейской культуры: «…у нас общие классики – греки и римляне; у нас одна классика – даже в нескольких переводах Библии» [Элиот 2004: 166]. В какой-то мере можно говорить о культурной и национальной непредвзятости автора этих строк, американца по рождению, «воспринимающего Европу и ее культуру в более широкой перспективе, чем сами европейцы с их острым чувством национальных различий» [Красавченко 2004: 727]. В своих суждениях Элиот объединял огромное географическое пространство, раскинувшееся на нескольких континентах.
Одним из основных факторов, способствующих единству различных национальных культур, Элиот считал религию. В предисловии к книге «Заметки к определению понятия «культура» поэт заявляет, что первым важным вопросом, который он собирается рассмотреть, является утверждение того, что «нет культуры, не возникшей и н развивавшейся вне религии» [Элиот 2004: 74]. Для европейской культуры такой религией стало христианство. Элиот утверждает, что именно христианство определяет единство и своеобразие западной традиции, вне зависимости от того, осознает это отдельно взятая личность или нет: «Именно в христианстве получили свое развитие все наши искусства, именно в христианстве – по крайней мере, до недавнего времени – заложены корни европейских законов. Именно на фоне христианства приобрела свое значение наша философия. Какой-нибудь отдельный европеец может не верить в истинность христианской веры, и все-таки то, что он говорит, делает, то, как ведет себя, – все идет от наследия христианской культуры и по смыслу своему зависит от этой культуры. Только христианская культура могла дать Вольтера и Ницше. Я не верю, что европейская культура может выжить в случае полного исчезновения Христианской Веры. <…> С исчезновением христианства исчезнет вся культура» [Там же: 174].
Для Элиота религия неразрывно связана с культурой. Вопрос о взаимодействии культуры и религии определил одно из основных направлений его эстетической системы. Для него характерно широкое понимание феномена религии, не просто как суммы конкретных верований и догм, а как «аспекта человеческого духа», охватывающего различные стороны бытия: «Нашему христианскому наследию обязаны мы большим, нежели только религиозной верой. Через него прослеживаем мы эволюцию наших искусств, через него приобщаемся к римскому праву, благодаря которому в основном и сформировался Западный мир, через это наследие приходим мы к пониманию личной и общественной морали. И через него овладеваем общими литературными нормами, данными литературами Греции и Рима. В этом наследии заключено единство Западного мира, – в христианстве и в древних цивилизациях Греции, Рима и Израиля, ведь именно в них, следуя по пути христианства длиною в две тысячи лет, мы видим свои истоки. <..> такое единство общих элементов культуры на протяжении многих веков и есть неразрывная связь между всеми нами» [ Элиот 2004: 174-175 ] .
Для Элиота важно было установить различие таких понятий, как материальная организация Европы ( the material organization of Europe ) и духовный организм Европы ( the spiritual organism of Europe ). Средством, обеспечивающим культурную общность европейских народов, по мнению Элиота, является традиция. Культурная память, хранящая и объединяющая духовный опыт и художественные достижения разных эпох, обеспечивает дальнейшее развитие всей европейской культуры: «…будущее европейской литературы напрямую зависит от того, насколько высоко мы будем почитать наших предшественников» [ Элиот 2004: 383 ] .
В настоящее время, на очередном культурно-историческом этапе, постмодернистская критика европоцентризма побуждает обратить серьезное внимание на предложенную Элиотом идею единства европейской культурной традиции уже в новом временном контексте. Прежде всего, следует заметить, что элиотовская идея единства европейской культуры ничего общего не имеет с теми явлениями, которые принято теперь обозначать, как вестернизация, европеизация или европоцентризм: «…говоря о единстве европейской культуры, не хочу оставить впечатление, что рассматриваю эту культуру как нечто стоящее особняком» [Элиот: 2004: 166]. Вопрос о навязывании определенных культурных стандартов, воздействии европейского опыта на неевропейские культурные регионы никогда не поднимался Элиотом (или же речь шла о негативном характере этого воздействия, см., например, рассуждения в «Заметках к определению понятия «культура» о взаимодействии колониальной и аборигенной культур): «Идея самодовлеющей европейской культуры была бы столь же гибельной, как и идея самодовлеющей национальной культуры; наконец, столь же абсурдной, как идея сохранения неприкосновенности местной культуры в каком-нибудь графстве или селе Англии» [Там же: 115].
У Элиота размышления о единой европейской культуре связаны, прежде всего, со стремлением выявить генетическое родство различных национальных традиций, создать предпосылки для продуктивного культурного диалога, определить общие универсальные духовные ценности поверх барьеров, поставленных политиками и сохраняемых благодаря невежеству, интеллектуальной лени и узости культурного кругозора обывателей. В заключительных тезисах Нобелевской речи поэта (1948) отражается этот пафос единения и вера в общечеловеческую значимость поэтического слова: «есть смысл в понятии "европейская поэзия" и даже "поэзия мировая". Думаю, именно в поэзии люди разных стран и языков – хотя это очевидно лишь по небольшой части общества – находят взаимопонимание. Оно существенно, каким бы неполным, частичным ни было. И я расцениваю присуждение Нобелевской премии по литературе поэту, прежде всего, как утверждение наднациональной ценности поэзии»[Элиот 2002: 155].
Элиот выделяет три основных элемента, составляющих внешний контекст любого вида искусства: «…традицию отечественную, традицию общеевропейскую и влияние одной европейской страны на другую» [Элиот 2004: 166]. Для сохранения здоровой европейской культуры, по мнению поэта, необходимы два условия: «во-первых, культура каждой страны должна быть уникальной, а во-вторых, различные культуры должны признавать свою взаимосвязанность, дабы каждая подвергалась воздействию других» [Там же: 171].
Причины жизнеспособности западной цивилизации – в ее открытости другим культурам, в постоянном внутреннем межкультурном диалоге. Говоря о том, что Данте является самым «всеобщим» поэтом, Элиот имел в виду, прежде всего, то, что за великим флорентийцем стояла вся европейская мудрость и единая система поэтической образности. Эта «всеобщность» отражала характер культурной ситуации в средневековой Европе, что очень импонировало поэту: «…средневековая латынь стремилась подчеркнуть и выразить то, о чем могут думать люди самых разных наций. Мне кажется, во флорентийской речи Данте немало этой всеобщности, а само уточнение ("флорентийская" речь) только подчеркивает ее, ибо снимает современное деление на разные народы. Чтобы любить французские или немецкие стихи, надо, наверное, иметь хоть какую-то склонность к французскому или немецкому складу ума. Данте – итальянец и патриот, но, прежде всего, он европеец» [Элиот 2004: 297].
Итак, важным фактором развития любой национальной культуры является ее открытость иным влияниям, «взаимообмен искусств и идей», полноценный культурный диалог. Элиот понимал, что только открытый тип культуры способен к развитию и генерированию подлинного искусства. Способность литературы к самообновлению зависит, по мнению Элиота, от наличия двух факторов: «Первое – ее способность принимать и усваивать внешние влияния. Второе – ее способность обращаться в прошлое и чер- пать опыт из собственных источников» [Элиот 2004: 165]. Богатство литературных и культурно-исторических ассоциаций обусловлено широтой культурных пристрастий автора, его способностью творчески освоить различные традиции, усвоить и «переварить» их. В лекции «Традиция и поэтическая практика» (Tradition and the Practice of Poetry, 1936), Элиот говорит о том, что поэт не должен бояться влияний самого различного характера: «Поэт не может избежать влияния, поэтому он должен подвергнуться возможно большему количеству влияний для того, чтобы избежать какого-либо одного влияния. У него может быть свой самобытный талант: но его оригинальность также должна целенаправленно развиваться; для того чтобы достигнуть зрелости, необходимо время, а творческая зрелость, большей частью, определяется способностью воспринять и усвоить самые разнообразные влияния» [Eliot 1988: 13]. Слова digest, digestion, которые неоднократно использует поэт в своих рассуждениях о восприятии того или иного влияния, усвоении опыта прошлого, имеют в английском языке несколько значений, в том числе, нейтральное – «усвоить», «усвоение» и конкретно-физиологическое – «переварить», «пищеварение». В раннем эссе «Еврипид и профессор Меррей» (Euripides and Professor Murray, 1920) подразумевается, скорее всего, второе: «Нам необходимо пищеварение, способное усвоить одновременно и Гомера, и Флобера. Мы должны внимательно изучать гуманистов и переводчиков Ренессанса так, как это делает м-р Паунд. Нам необходимо зрение, с помощью которого мы сможем видеть прошлое там, где оно было, с его определенными отличиями от настоящего, и все же видеть его настолько живым, что оно предстанет перед нами как настоящее. Это и есть творческое зрение…» [Eliot 1998: 43]. Несмотря на декларируемую всеядность, сам поэт имел весьма определенные творческие ориентиры и художественные пристрастия, тем не менее этот пафос всеобщности, как временной, так и национальной, сохранялся в деятельности поэта на протяжении всего творческого пути.
Идея «всемирной культуры» осознается Элиотом скорее как недостижимый идеал, понятие абстрактное и умозрительное. Он признает, что воссоединение и объединение различных культур вряд ли может быть достижимо, но реальной остается возможность взаимодействия и взаимообщения национальных традиций, совместная деятельность по сохранению общего наследия, признание родства и взаимозависимости: «Важно, что друг без друга мы не способны создавать те прекрасные произведения, которые олицетворяют высшую цивилизацию» [Элиот 2004:175]
В своей художественной практике Элиот был многим обязан своим предшественникам, поэтам, писателям, музыкантам, философам, теологам различных эпох и различной национальной принадлежности: англичанам У.Шекспиру и Дж.Герберту, французам С.Малларме и П.Валери, итальянцу Данте, испанцу С.-Х. де ла Крусу, русским Ф.М.Достоевскому и И.Ф.Стравинскому, американцам У.Уитмену и Э.Паунду, античным авторам – список можно продлять до бесконечности каталога. Поэт осознавал их влияние, был благодарен своим предшественникам, развивал их достижения, возрождал общие для европейцев мифологические модели и т.п. Творчество Элиота может считаться ярким примером воплощения «европейского сознания» в его протяженности от архаической культуры до авангардного искусства прошлого века. А европейская идея Элиота об общем культурном пространстве, объединяющем и сближающем народы, продолжает оставаться актуальной и плодотворной.
Tyumen State University
This paper deals with the concept of cultural unity of Europe produced by T.S.Eliot, a Nobel Prize winner (1948), outstanding poet, playwright and critic of the 20th century. The material of this research includes the following works: The Idea of a Christian Society , Notes towards the Definition of Culture , The Unity of European Culture , Goethe as the Sage and others. The research focuses on Eliot's interpretation of such issues as «the mind of Europe», «politics and culture», «a European myth-hero», «frontiers of European cultural oikoumena», «Christianity and European cul-ture», «common European cultural tradition», etc. Some historical, aesthetic, biographic aspects of Eliot's «European idea» are considered.
Список литературы Единство европейской культуры как «европейская идея» Т.С.Элиота
- Вейдле В.В. Задача России. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956.
- Доценко Е.Г. С.Беккет и проблема условности в современной английской драме: Монография. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2005.
- Красавченко Т.Н. Заметки к определению Т.С.Элиота//Элиот Т.С. Избранное. Религия, культура, литература. Т. I-II. С.719-740.
- Топоров В.Н. Пространство культуры и встречи в нем//Восток -Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М.: Наука, 1989. Вып. 4. С. 6-17.
- Ушакова О.М. Т.С. Элиот и европейская культурная традиция: Монография. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2005.
- Элиот Т. С. Избранное: Стихотворения и Поэмы; Убийство в соборе: Драма; Эссе, лекции, выступления/пер. с англ.; сост. Ю. Комов; коммент. Т. Красавченко. М.: ТЕРРА -Книжный клуб, 2002.
- Элиот Т.С. Избранное. Т.I-II. Религия, культура, литература/пер. с англ., под ред. А.Н.Дорошевича; сост., послесл. и коммент. Т.Н.Красавченко. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004.
- Eliot T.S. The Idea of a Christian Society. London: Faber and Faber Ltd., 1946.
- Eliot T.S. Notes towards the Definition of Culture. New York: Harcourt, Brace and Company, 1949.
- Eliot T.S. On Poetry and Poets. London: Faber and Faber, 1957.
- Eliot T.S. Tradition and the Practice of Poetry//Essays from the «Southern Review»/ed. by J.Olney. Oxford: Clarendon Press, 1988. P.10-20.
- Eliot T.S. The Sacred Wood and Major Early Essays. Mineola; New York: Dover Publications, Inc., 1998.
- Moody A.D. The Mind of Europe in T.S.Eliot//Eliot T.S. at the Turn of the Century. Lund: Lund University Press, 1994. P.13-32.
- The Criterion. Collected Edition. Vol. I-XVIII. London: Faber and Faber Limited, 1967.