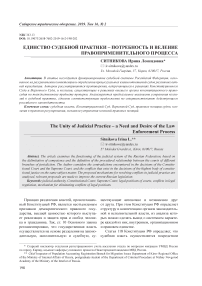Единство судебной практики - потребность и веление правоприменительного процесса
Автор: Ситникова Ирина Леонидовна
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Уголовный процесс
Статья в выпуске: 2 т.16, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется функционирование судебной системы Российской Федерации, основанное на разграничении компетенции и определении процессуальных взаимоотношений судов различных ветвей юрисдикции. Автором рассматриваются противоречия, встречающиеся в решениях Конституционного Суда и Верховного Суда, и коллизии, существующие в решениях высшего органа конституционного правосудия по тождественному предмету проверки. Анализируются предлагаемые механизмы устранения коллизий в судебной практике, сделаны соответствующие предложения по совершенствованию действующего российского законодательства.
Судебная власть, конституционный суд, верховный суд, правовые позиции судов, коллизии в правовом регулировании, механизм устранения коллизий правовых позиций
Короткий адрес: https://sciup.org/143166988
IDR: 143166988 | УДК: 343.13 | DOI: 10.19073/2658-7602-2019-16-2-198-202
Текст научной статьи Единство судебной практики - потребность и веление правоприменительного процесса
Принцип разделения властей, провозглашенный Конституцией РФ, является неотъемлемым признаком демократического правового государства, высшей ценностью которого выступает реализация и защита прав и свобод человека и гражданина. Так, ст. 10 Основного закона регламентировано, что государственная власть осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, су- ществующие автономно и независимо друг от друга. При этом Конституция РФ определяет структуру и компетенцию органов законодательной и исполнительной власти, из анализа которых можно сделать вывод о системном характере каждой из них, внутреннем, организационном и правовом единстве.
Статья 118 Конституции РФ определяет, что судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. И, как отмечает К. А. Сасов, все ветви судебной власти равноправны в пределах своей компетенции (т. е. не имеют административного подчинения друг перед другом) [5, с. 25–31]. Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» установлено, что на федеральном уровне судебная власть осуществляется Конституционным Судом, системой судов общей юрисдикции, Верховным Судом, являющимся высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, и осуществляющим судебный надзор за их деятельностью1.
Общность задач по осуществлению правосудия данными органами судебной власти, как указывала Т. Г. Морщакова, связана с разграничением полномочий и определением взаимоотношений между ними [4, с. 22]. При этом компетенция данных органов судебной власти определена как в Конституции РФ, так и в соответствующих федеральных конституционных законах. Достаточно четкое разграничение сфер юрисдикции не позволяет судам дублировать друг друга, исключает споры о компетенции между ними. Так, Конституционный Суд РФ в своих решениях неоднократно указывал на отсутствие его компетенции по проверке законности и обоснованности применения норм права судами общей юрисдикции2. Отсутствие споров о компетенции в свою очередь способствует эффективному осуществлению правосудия и исключает вынесение по одному, в сущности, делу противоречивых решений, равно обязательных для исполнения, гарантируя судебную защиту прав и свобод человека и гражданина в различных видах правоприменительной деятельности [1, с. 75–82].
Процессуальные взаимоотношения подразумевают возможность обращения судов различных ветвей юрисдикции друг к другу, определение значения актов одной ветви судебной власти для других [4, с. 22]. На первый взгляд, обязательность исполнения на всей территории Российской Федерации судебных постановлений, вступивших в законную силу, и единообразное применение всеми органами судебной власти норм действующего законодательства способствуют формированию единого правового пространства на территории государства и исключают возможность существования коллизий в судебных решениях. Кроме того, провозглашенная ст. 6 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» (далее – ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»)3 обязательность решений высшего органа конституционного правосудия (как итоговых решений, вынесенных в форме постановления, так и иных – определений) для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти подразумевает единообразное применение нормативных актов в данном им истолковании. В результате, как констатировала Т. Г. Морщакова, толкование Конституции РФ и иных нормативных актов, произведенное Конституционным Судом РФ, является обязательным для всех, включая другие суды (в том числе и Верховный Суд РФ), чем обеспечивается искомое единство судебной практики при применении конституционных норм всеми судами [4, с. 22].
Однако ст. 79 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» законодательно закрепляет обязательность решений высшего органа конституционного правосудия (только итоговых решений, принятых в форме постановления) лишь для системы судов общей юрисдикции и арбитражных судов, не включая в число субъектов Верховный Суд, который в соответствии с недавними изменениями действующего законодательства не входит в систему судов общей юрисдикции. При этом до настоящего времени процедурные взаимоотношения высших органов судебной власти законодательно не регламентированы.
В результате, несмотря на законодательно провозглашенное единство судебной системы, обеспечиваемое в том числе и посредством единообразного применения всеми судами Конституции, федерального законодательства, общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации, субъективная интерпретация указанных законодательных норм судьями Верховного и Конституционного судов нередко находит свое отражение в итоговых решениях и разъяснениях судебной практики, порождая множество коллизий в правоприменительной деятельности. Неопределенность норм ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» позволяет Верховному Суду подходить к вопросу об императивности решений высшего органа конституционного правосудия крайне избирательно. Ряд его решений явно говорят об игнорировании предписаний, вынесенных Конституционным Судом. Приведем примеры некоторых из них.
-
1. Верховный Суд в своем решении придерживается позиции, в соответствии с которой судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не может участвовать в рассмотрении уголовного дела в отношении соучастников преступления, в совершении которого обвинялось такое лицо4. Конституционный Суд, напротив, не закрепляет ограничений на участие судьи в рассмотрении выделенного уголовного дела в отношении другого участника престу-пления5.
-
2. Верховный Суд придерживается мнения, согласно которому суд апелляционной инстанции может принять решение, ухудшающее положение осужденного по отношению к приговору суда первой инстанции, не иначе как по представлению прокурора и (или) жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и (или) представителей. При этом он не вправе выходить за пределы доводов жалобы или представления6. Конституционный Суд в од-
- ном из своих итоговых решений сформулировал правовую позицию, в соответствии с которой суд вправе вернуть дело прокурору для квалификации совершенного действий обвиняемого как более тяжкого преступления вне зависимости от отсутствия в представлении прокурора или жалобе вопросов о правовой оценке фактических обстоятельств при наличии в них вопроса о необходимости учета отягчающего наказание обстоятельства и (или) об ужесточении наказания осужденному7.
На вышеуказанных примерах коллизии не исчерпываются. Однако в данном случае возникает вопрос, каким же актом будет руководствоваться судья при разрешении дела по существу: 1) проведет классификацию источников права и применит в деле итоговый акт Конституционного Суда РФ; 2) воспримет как данность решение Верховного Суда РФ, выполняющее своего рода роль судебного прецедента для системы судов общей юрисдикции; 3) подойдет к выбору итогового акта, подлежащего применению, крайне избирательно, в зависимости от характера рассматриваемого дела и своего субъективного мнения. Вероятно, в условиях современной действительности верным окажется третий вариант ответа.
Кроме того, высший орган конституционного правосудия не всегда одинаково интерпретирует как нормы Конституции РФ, так и иные нормативные акты в рамках рассматриваемого дела. Так, Конституционный Суд РФ в постановлении от 21 декабря 2005 г. № 13-П указал на возможность изменения или уточнения с течением времени правовых позиций, сформулированных в результате интерпретации, истолкования тех или иных положений Конституции РФ, чтобы адекватно выявить смысл тех или иных конституционных норм, их букву и дух, с учетом конкретных социально-правовых условий их реализации, включая изменения в системе правового регулирования8. Впоследствии из правового регулирования устранен и без того ни разу не примененный на практике механизм пересмотра высшим органом конституционного правосудия ранее принятых им же правовых позиций.
В результате нормативное закрепление возможности правовых позиций Конституционного Суда РФ изменяться с течением времени под воздействием социально-правовых условий реализации норм права и субъективного мнения судей, отсутствие легального механизма пересмотра правовых позиций как непосредственно высшим органом конституционного правосудия, так и иными органами государственной власти обусловили существование противоречащих друг другу правовых позиций по тождественному предмету проверки.
Так, в определении Конституционного Суда от 21 мая 2015 г. № 1054-О высказана правовая позиция, согласно которой осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения9. При этом Верховный Суд РФ также указывал на необходимость получения разрешения суда при производстве осмотра жилища в случае возражения хотя бы одного из проживающих в нем лиц10.
Однако Конституционный Суд в определении от 17 июля 2018 г. № 1955-О объективировал правовую позицию, согласно которой проведение осмотра (в том числе и в жилище) в целях получения имеющей значение для уголовного дела информации, находящейся в электронной памяти абонентских устройств, изъятых при производстве следственных действий в установленном законом порядке, не предполагает вынесения об этом специального судебного решения11.
Следует отметить, что при существовании различных правовых позиций Конституционно-
Уголовный процесс го Суда по тождественному предмету проверки законодательно не определены критерии выбора нужной правовой позиции в той или иной ситуации [3, с. 13–18]. Данное обстоятельство затрудняет правоприменительную деятельность и делает определяющим субъективный фактор при осуществлении правосудия. Кроме того, наличие противоречащих друг другу правовых позиций как высшего органа конституционного правосудия, так и высших органов судебной власти по тождественному предмету проверки нивелирует провозглашенный принцип единства судебной системы, основанный на единообразном применении Конституции РФ, федерального законодательства, и признания обязательности исполнения на всей территории Российской Федерации судебных постановлений, вступивших в законную силу12.
Предложения о способах разрешения коллизий решений высших судебных органов нередко находили место в исследованиях представителей российской правовой доктрины. В качестве одного из таких способов С. М. Даровских и Ю. А. Воронин предлагали ведение систематического учета правовых позиций всех судов, в том числе и Европейского Суда по правам человека, используемых при осуществлении правосудия [2, с. 33].
В качестве способа решения проблемы взаимоотношений судов различных видов юрисдикции и формирования единой судебной практики Т. Г. Морщакова привела в своем исследовании позиции ряда представителей правовой доктрины о возможности реализации идеи единства судебной системы, руководимой единым центром, ее безотраслевом построении. При этом предлагается исключить организационное выделение судов, осуществляющих конституционную, административную, арбитражную, общую, включая уголовную и гражданскую, юрисдикции [4, с. 23]. Данная позиция не теряет своей актуальности в свете разговоров о возможности объединения Верховного и Конституционного судов вслед за слиянием Верховного и Высшего Арбитражного судов в целях обеспечения единства подходов при отправлении правосудия, в том числе и единообразного толкования и применения норм права.
Вместе с тем стоит отметить, что Верховный Суд и Высший Арбитражный Суд обладали сходными полномочиями, имея различные субъекты, заинтересованные в защите своих прав. Полномочия же Верховного и Конституционного судов не дублируют друг друга. Учитывая данную особенность, Т. Г. Морщакова предлагала в качестве способа единого толкования законодательства обсуждение существующих противоречий на объединенном пленуме двух судов [4, с. 30]. Однако в настоящее время Пленум в составе Конституционного Суда не выделен. Для реализации предложенного механизма необходимо изменение состава высшего органа конституционного правосудия посредством внесения соответствующих изменений в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ».
На наш взгляд, для устранения коллизий среди решений высших судебных органов по тождественному предмету проверки и формиро- вания единой судебной практики необходимо, обратившись к конституционно закрепленному механизму разрешения противоречий при рассмотрении законопроектов между Советом Федерации и Государственной Думой, создать согласительную комиссию, состоящую из судей Конституционного и Верховного судов. При этом необходимо законодательное закрепление обязанности обращения субъектов правоприменительной деятельности в согласительную комиссию для устранения вышеуказанных коллизий при их выявлении. Решения данной комиссии, принятые в форме постановления, должны носить императивный характер для всех субъектов правоприменительной деятельности.
Только при единообразном применении норм действующего законодательства органами судебной власти, приоритете истинности ранее принятых правовых позиций по рассматриваемому вопросу, а также в случае разработки механизма устранения различных правовых позиций высших судебных органов по тождественному предмету проверки возможна реализация провозглашенного принципа единства судебной системы, выполнение задач по осуществлению правосудия, защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение равенства всех граждан перед законом и судом.
Список литературы Единство судебной практики - потребность и веление правоприменительного процесса
- Брежнев О. В. Проблема «совместной компетенции» в сфере судебного нормоконтроля в России и пути ее разрешения//Журнал российского права. 2006. № 6. С. 75-82.
- Воронин Ю. А., Даровских С. М. Проблемы выявления и разрешения конкуренции правовых позиций судов различных уровней//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Право. 2012. Вып. 30. С. 29-34.
- Ковтун Н. Н. «Немягкая сила» актов конституционного правосудия//Уголовное судопроизводство. 2017. № 2. С. 13-18.
- Морщакова Т. Г. Разграничение компетенции между конституционным судом и другими судами Российской Федерации//Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1997. № 7. С. 22-31.
- Сасов К. А. Конституционный Суд в судебной системе: общность задач в правосудии и различия в их решении//Конституционное и муниципальное право. 2005. № 7. С. 25-30.