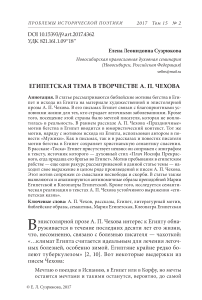Египетская тема в творчестве А. П. Чехова
Автор: Сузрюкова Елена Леонидовна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.15, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются библейские мотивы бегства в Египет и исхода из Египта на материале художественной и эпистолярной прозы А. П. Чехова. В его письмах Египет связан с благоприятными условиями жизни для тех, кто страдает легочными заболеваниями. Кроме того, посещение этой страны было мечтой писателя, которая не воплотилась в реальность. В раннем рассказе А. П. Чехова «Праздничные» мотив бегства в Египет вводится в юмористический контекст. Тот же мотив, наряду с мотивом исхода из Египта, использован автором в повести «Мужики». Как в письмах, так и в рассказах и повестях писателя мотив бегства в Египет сохраняет христианскую семантику спасения. В рассказе «Тоска» Египет присутствует неявно: он сопряжен с эпиграфом к тексту, источник которого - духовный стих «Плач Иосифа Прекрасного, егда продаша его братья во Египет». Мотив пребывания в египетском рабстве - еще один ракурс рассматриваемой в данной статье темы - находит свое выражение в целом ряде произведений и писем А. П. Чехова. Этот мотив сопряжен со смыслами несвободы и скорби. В статье также выявляются и анализируются антиномичные образы преподобной Марии Египетской и Клеопатры Египетской. Кроме того, исследуется семантическая реализация в текстах А. П. Чехова устойчивого выражения «египетская казнь».
А. п. чехов, рассказы, египет, литературный мотив, библейские образы, семантика, мария египетская, клеопатра египетская
Короткий адрес: https://sciup.org/14749021
IDR: 14749021 | УДК: 821.161.1.09“18”
Текст научной статьи Египетская тема в творчестве А. П. Чехова
В эпистолярной прозе А. П. Чехова интерес к Египту обнаруживается в течение последних десяти лет его жизни, что, несомненно, связано с болезнью писателя — чахоткой: «…климат Египта считается идеальным для лечения легочных болезней, особенно зимой. Египтяне крайне редко болеют туберкулезом» [2, 10]. Вот некоторые выдержки из писем Чехова:
Мечтаю о поездке в Испанию, в Египет или в Корфу, но мечты остаются мечтами и такими останутся, вероятно, до самой дохлой смерти (Ф. О. Шехтелю от 26 мая 1894 г., Мелихово)1 (Письма, 5, 300);
Ужасно хочется в тепло, куда-нибудь в Египет или на озеро Комо ( Н. М. Линтваревой от 6 сентября 1894 г., Феодосия ) ( Письма, 5, 314);
Теперь я дома, чувствую себя хорошо и, несмотря на верхушечный процесс (притупление и хрипы), кашляю только по утрам. К зиме, вероятно, уеду куда-нибудь — в Египет или в Сочи, теперь же нет особенной надобности уезжать, так как общее мое состояние недурно, температура нормальна и в весе я прибавляюсь ( Н. М. Линтваревой от 1 мая 1897 г., Мелихово ) ( Письма, 6, 345);
Если будут деньги, то из Ниццы через Марсель поеду в Алжир и в Египет, где я еще не был ( Л. С. Мизиновой от 18 (30) сентября 1897 г., Биарриц ) ( Письма, 7, 53);
Многоуважаемый Отец Архимандрит, до сих пор я еще не ответил на Ваше последнее письмо и не поблагодарил за книгу «Египет и египтяне», которую Вы прислали мне в ноябре ( С. А. Петрову (архимандриту Сергию) от 27 мая 1898 г., Мелихово ) ( Письма, 7, 218‒219);
…в Африку я не поеду теперь, а буду работать. <…> Египет и Алжир я оставил до будущего года ( О. Л. Книппер от 17 (30) декабря 1900 г., Ницца ) ( Письма, 9, 154).
Присланная писателю архимандритом Сергием книга о Египте также свидетельствует об интересе Чехова к этой стране. Однако поездка в Египет так и не состоялась.
В письмах Чехова Египет фигурирует и в юмористическом ключе:
Дело еще не кончено, но переговоры ведутся настойчиво, и очень может быть, что когда ты будешь читать это письмо, то я буду уже продан в рабство во Египет ( И. П. Чехову от 18 января 1899 г., Ялта ) ( Письма, 8, 27).
Речь идет о соглашении с издателем А. Ф. Марксом о его исключительном праве на печать произведений Чехова. Подобным образом — в шуточном смысле — египетская тема начинает звучать уже в ранних произведениях писателя. Так, в рассказе «Праздничные» эта тема возникает следующим образом:
Если же у него <обывателя> денег нет, то он делает заем; если же сделать займа почему-либо нельзя, то берет свое семейство и бежит в Египет… ( Сочинения , 3, 214).
Здесь мотив бегства в Египет, восходящий к евангельской истории о спасении божественного Младенца от гнева Ирода, как и в чеховских письмах последних лет, обретает смысл избавления от несчастья и контрастирует с мотивом нахождения в египетском плену, упоминаемом в письме о соглашении с Марксом2.
Мотив бегства в Египет есть и в произведении зрелого творчества А. П. Чехова — повести «Мужики» (1897). Именно этот фрагмент из Евангелия читает по просьбе матери Саша:
— «И бежи во Египет… и буди тамо, дондеже реку ти…» ( Сочинения, 9, 289).
Дважды повторяется в тексте семантически рифмующийся с этим мотивом мотив ухода: в начале текста это отъезд из Москвы семейства Чикильдеевых, в конце — уход Ольги и Саши из деревни, мотив ухода, таким образом, «окольцовывает» текст. В Евангелии вынужденное оставление родных мест означало спасение и оставляло надежду на возвращение. В чеховском же повествовании история названной семьи драматична. Деревня Жуково не становится новым домом для семьи Чикильдеевых. Уже без Николая Ольга и Саша вновь возвращаются в Москву. Подобно евангельскому Иосифу Об-ручнику3, который упоминается лишь в начале Евангелий от Матфея и от Луки, а затем выводится из повествования (что связано в том числе и со смертью старца Иосифа), муж Ольги исчезает из повествования, а в центре изображения остаются мать и ее дитя. Сама деревня Жуково, которую характеризуют грязь, пьянство, немилосердное отношение людей друг к другу, сопоставима с Египтом: по словам блаж. Феофилакта Болгарского, «особенно два места были гнездом всякого нечестия — Вавилон и Египет; итак, от Вавилона Он принял поклонение чрез волхвов, а Египет освятил Собственным присутствием» [11, 72–73]. Ребенком, который несет благую весть заблудшим, в чеховской повести становится Саша, читавшая деревенским Евангелие. Сам церковнославянский язык прочитанного ею текста — знак принадлежности девочки к миру веры, с которым, очевидно, мало и поверхностно соприкасаются деревенские жители. Сама Саша весьма отличается от тех, кто ее окружает в Жуково:
Среди других девочек, загоревших, дурно остриженных, одетых в длинные полинялые рубахи, она, беленькая, с большими, темными глазами, с красною ленточкой в волосах, казалась забавною, точно это был зверек, которого поймали в поле и принесли в избу ( Сочинения, 9, 289).
Сравнение с пойманным зверьком, как замечает З. С. Папер-ный, «не столь безобидно, как может показаться; в нем скрыто <…> ощущение неволи <…>» [7, 74]. В данном контексте уход Ольги и Саши из Жуково может быть осмыслен как освобождение от «египетского рабства», беспросветной деревенской жизни. Неслучайно, видимо, А. П. Чехов не закончил продолжение этой повести, рассказывающей о несчастной жизни персонажей в Москве (этот текст опубликован в разделе «Неоконченное» — ( Сочинения , 9, 345–348)). Таким образом, мотив бегства в Египет в рассматриваемом нами произведении при соотнесении с уходом героев из Москвы оборачивается мотивом египетского рабства, пребыванием в несвободном положении. Но завершение повести может быть прочитано как освобождение от этого рабства, надежда на новую, светлую жизнь, которая начинается скитаниями, что позволяет говорить еще об одном мотиве, связанном с египетской темой, — исходе из Египта.
По-иному звучит египетская тема в рассказе «Тоска» (1886). Она задана посредством эпиграфа: «Кому повем печаль мою?..» (Сочинения, 4, 326), где цитируется первая строка из духовного стиха, полное название которого таково: «Плач Иосифа Прекрасного, егда продаша его братья во Египет»4. Тема тоски сопряжена в рассказе с мотивом смерти: причина страданий извозчика Ионы Потапова — смерть единственного сына, а также невозможность поведать кому-либо о своем горе и тем облегчить его5. Скорбь ветхозаветного Иакова о любимом сыне Иосифе соотносится в рассказе через эпиграф с печалью Ионы об умершем сыне Кузьме. По мнению прот. А. Ткачева, «отношение к смерти есть та главная черта, которая выделяет египтян из остального мира» [9, 298]. Смерть в Древнем Египте неизбежно связана с идеей новой жизни. В «Тоске» новую жизнь, без сына, начинает извозчик Иона. Абсолютно безнадежной эту жизнь все же считать нельзя: извозчик нашел адресата для выражения своей скорби6, пусть и необычного: «В деревне осталась дочка Анисья… <…> Иона увлекается и рассказывает ей все…» (Сочинения, 4, 330). Текст завершился многоточием, а не точкой. К тому же, по мнению А. Л. Топоркова, в стихе об Иосифе Прекрасном содержится «тема “самосхоронения”, погребения заживо как залога будущего воскресения и обретения новой личности» [10, 29]. Скорбь самого Иосифа, чей голос мы слышим в эпиграфе, со временем иссякнет. То же самое должно произойти и с чеховским Ионой, чья жизненная ситуация семантически рифмуется со страданиями Иосифа.
Но если в рассказе «Тоска» безысходность скорби находит свое разрешение, переживание смерти смягчается тем, что герой выражает свое горе, то в других произведениях Чехова египетская тема нередко сопряжена со смыслом умирания или состоянием внутренней мертвенности персонажей. К примеру, в очерке « Из Сибири » (1890) старик, везущий рассказчика в тарантасике, «кряхтит или стонет, как египетский голубь» ( Сочинения , 14/15, 10). Звуковая подробность подчеркивает возраст старика и его немощь. В рассказе « Учитель словесности » (1889‒1894) египетские голуби7 — часть антуража дома Шелестовых, они тоже обозначают свое присутствие через звук: эти голуби «уныло стонали в большой клетке на террасе» ( Сочинения , 8, 313). Данные стоны, рождающие ассоциации с мотивами страдания и пленения, символизируют историю неудачной женитьбы Никитина, ставшего несвободным и несчастным. Египетская тема усилена в рассказе образом Шебалдина, внешне похожего на мумию:
Звали его в городе мумией, так как он был высок, очень тощ, жилист и имел всегда торжественное выражение лица и тусклые неподвижные глаза. <…> даже брил себе усы и бороду, а это еще больше делало его похожим на мумию ( Сочинения , 8, 316).
Именно Шебалдин, наделенный признаками персонажа из другого мира и другой культуры, напоминает Никитину о необходимости личностного развития.
Связанный с египетской темой мотив смерти появляется и в повести « Черный монах » (1893), когда Коврин, обращаясь к Тане, иронически именует себя Иродом, а Таню и Егора Семеныча — «египетскими младенцами» ( Сочинения , 8, 253). Здесь наблюдается контаминация мотивов: Ирод избивал младенцев, но отнюдь не египетских; египетские младенцы напоминают о казнях египетских, которые были посланы за нежелание фараона отпустить еврейский народ. Эта смесь указывает на «расщепленное», нездоровое сознание главного героя и может служить иллюстрацией к «истории болезни»8. Как сообщал Чехов в письме М. О. Меньшикову 15 января 1894 года о данном произведении: «Это рассказ медицинский, historia morbi» ( Письма , 5, 262).
Несколько раз в художественных и эпистолярных текстах Чехова встречается словосочетание «египетская казнь», под которой подразумевается то «безматериалье» ( письмо Н. А. Лейкину от 12/13 февраля 1884 г .) ( Письма , 1, 104), то «разливы рек» ( письмо Н. А. Лейкину от 5 июня 1890 г .) ( Письма , 4, 101), то «мошкара» («Из Сибири») ( Сочинения , 14/15, 33). «Египетская казнь», таким образом, приобретает в текстах писателя значение неких препятствий, не смертельных, однако неприятных.
В художественных и эпистолярных произведениях Чехова выявляются женские образы, связанные с Египтом. В письме к брату Ал. П. Чехову от 2 января 1894 г. есть шутливая подпись «Антон и Клеопатра Чеховы» ( Письма , 5, 259), где имеется в виду, что Антон — сам писатель, а Клеопатра — его жена, Ольга Леонардовна. Хотя мы не отрицаем комического характера этой подписи, отметим все же ее связь с одноименной шекспировской пьесой9, в которой Антоний трагически погибает из-за страсти к роковой женщине Клеопатре. В этом семантическом поле отчасти может быть осмыслена и судьба самого Чехова10.
Антоний и Клеопатра как парные персонажи упоминаются в ранних произведениях Чехова «Контора объявлений Антоши Ч.» (1881) и «Моя “она”» (1885). В первом акцентируется любовная связь между ними в форме представления публике в качестве музейного экспоната невидимых сетей, их соединяющих: «Сети, в кои увлекла развратного Антония прекрасная Клеопатра» (Сочинения, 1, 102). Во втором — с помощью такой художественной детали как ложе: «Я пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно, как древняя Клеопатра не менее древнего Антония, манит меня к ложу» (Сочинения, 4, 11) (здесь несомненно влияние пушкинских «Египетских ночей»). С Клеопатрой Египетской Чехов сравнивает некоторых своих героинь, при этом подчеркивая такие их качества, как «томность» (рассказ «От нечего делать», 1886) и «манерность и странность» (повесть «Моя жизнь», 1896):
…на бархатной кушетке, спустив ноги на скамеечку, полулежала его жена, Анна Семеновна, дама тридцати трех лет; поза ее, небрежная и томная, походила на ту позу, в какой обыкновенно рисуется Клеопатра египетская, отравляющая себя змеями («От нечего делать») ( Сочинения , 5, 158);
…она <сестра Мисаила> некстати надела серьги и брильянты и была странно одета, заметили и другие; я видел на лицах улыбки и слышал, как кто-то проговорил, смеясь:
— Клеопатра Египетская.
Она старалась быть светскою, непринужденной, покойной и оттого казалась манерною и странной. Простота и миловидность покинули ее («Моя жизнь») ( Сочинения, 9, 266).
Наконец, Клеопатра — имя, которое дано отдельным персонажам произведений писателя: Клеопатра Сергеевна — «распущенная женщина», по определению супруги героя (рассказ « Конь и трепетная лань », 1885); мать несостоявшей-ся невесты (рассказ « Неудача », 1886); Клеопатра Алексеевна, сестра главного героя повести «Моя жизнь», где это имя трактуется как алогичное и несообразное, соответствующее бесталанному архитектурному стилю их отца. В последнем из процитированных фрагментов ирония публики основывается как раз на имени героини.
Другой женский образ, связанный с Египтом, семантически полярный по отношению к образу Клеопатры и в то же время соотносимый с ним, также фигурирующий в произведениях Чехова, — Мария Египетская. С Клеопатрой она может быть сопоставлена в рамках оппозиционных категорий «античность / христианский мир», более конкретно — в пределах категории «нераскаянная грешница11 / кающаяся грешница». Мария Египетская упоминается в рассказе «Припадок» (1888), символизируя потенциальную возможность измениться женщинам из публичного дома, а в рассказе «Панихида» (1886) — как пример получившей прощение блудницы. Как видим, семантика греха, связанная с этим образом, присутствует в текстах Чехова, но она неотделима от семантики покаяния, задающей высокую духовную перспективу для тех, кто сравнивается с преподобной Марией Египетской.
Итак, египетская тема реализуется в текстах писателя, с одной стороны, в мотивах бегства в Египет и исхода из Египта и имеет семантику спасения, с другой — она сопряжена с мотивами скорби, несвободы и смерти. Кроме того, в произведениях и письмах А. П. Чехова присутствуют семантически полярные по отношению друг к другу образы Клеопатры Египетской и Марии Египетской, связанные со смыслами греховной жизни и возможности покаяния соответственно.
Чаще всего она уезжала в театр, но иногда отправлялась на какой-нибудь благотворительный концерт. За ней заезжал Немирович во фраке, пахнущий сигарами и дорогим одеколоном, а она в вечернем туалете, надушенная, красивая, молодая, подходила к мужу со словами:
— Не скучай без меня, дусик, впрочем, с Букишончиком тебе всегда хорошо… До свиданья, милый, — обращалась она ко мне. Я целовал ее руку, и они уходили. Чехов меня не отпускал до ее возвращения. И эти бдения мне особенно дороги. <…>
Список литературы Египетская тема в творчестве А. П. Чехова
- Богодерова А. А. Сюжетная ситуация ухода в творчестве А. П. Чехова//Сибирский филологический журнал. -Новосибирск, 2010. -Вып. 2. -С. 29-33.
- Васильев А. М. Египет и египтяне. -М.: Мысль, 1986. -255 с.
- Видуэцкая И. П. А. П. Чехов и его издатель А. Ф. Маркс. -М.: Наука, 1977. -167 с.
- Жилина Н. П. Евангельские реминисценции в повести А. П. Чехова «Черный монах»//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. Вып. 8: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. -Вып. 5. -С. 461-480 . -URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=3461 (20.05.2017).
- Леонов И. С., Янина А. В. Мотив «не услышан/не понят» в рассказах А. П. Чехова «Тоска» и «Ванька» как основа формирования философии одиночества в творчестве писателя//Новая наука: теоретический и практический взгляд. -2016. -№ 8 (88). -С. 120-123.
- Непомнящий В. «Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный..». О некоторых современных толкованиях Пушкина//Новый мир. -1974. -№ 6. -С. 248-266.
- Паперный З. С. «Мужики» -повесть и продолжение//В творческой лаборатории Чехова. -М.: Наука, 1974. -С. 54-77.
- Степанов А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова. -М.: Языки славянской культуры, 2005. -400 с.
- Ткачев А., прот. Мы вечны! Даже если этого не хотим: в 2 кн. -Симферополь: Родное Слово, 2014. -Кн. 1. -304 с.
- Топорков А. Л. Духовные стихи в русской литературе первой трети XX века//Русская литература. -2015. -№ 1. -С. 5-29.
- Феофилакт Болгарский, блаж. Толкования на Евангелие от Матфея//Феофилакт Болгарский, блаж. Благовестник: в 4 т. -М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. -Т. 1. -448 с.
- Цилевич Л. М. Сюжет чеховского рассказа. -Рига: Звайгзне, 1976. -238 с.
- Эйделькинд Я. Д. Интерпретация жанра Книги прор. Ионы в современных исследованиях//Православная энциклопедия/под ред. Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. -М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2010. -Т. XХV: Иоанна деяния -Иосиф. -752 с. . -URL: http://www.pravenc.ru/text/578248.html (20.05.2017).