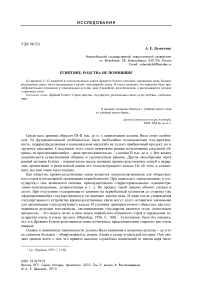Египтяне, родства не помнящие
Автор: Демидчик Аркадий Евгеньевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
Ко времени V-VI династий в господствующем классе Древнего Египта считались значимыми лишь близкие родственные связи, часто сводившиеся к малой, «нуклеарной» семье. В статье показано, что нередким было пренебрежительное отношение к поминальным культам даже ближайших родственников, и высказываются догадки о причинах этого.
Древний египет, старое царство, государство, родственные связи, культ мертвых, гробница, царь
Короткий адрес: https://sciup.org/14737279
IDR: 14737279 | УДК: 94(32)
Текст научной статьи Египтяне, родства не помнящие
Я заставил человека обняться с убийцей своего отца и с убийцей своего брата…
Древнеегипетский номарх Анхтифи ,
XXII–XXI вв. до н. э.
Среди всех древних обществ III–II тыс. до н. э. цивилизация долины Нила стоит особняком. Ее фундаментальной особенностью была необычайно полновластная государственность, перераспределявшая в национальном масштабе не только прибавочный продукт, но и трудовое население. Следствием этого стало невероятно раннее исчезновение соседской общины, не прослеживающейся – даже предположительно – с начала II тыс. до н. э. Нет веских доказательств существования общины и тысячелетием раньше. Другая своеобразная черта ранней истории Египта – поразительно малое значение кровно-родственных связей в иерархии, организации и религиозной жизни его господствующего класса. Но об этом, к сожалению, все еще очень мало сказано.
Как известно, кровно-родственные связи являются основополагающими для общественного строя и потестарной организации первобытности. При переходе к «цивилизации» и «государству» они заменяются связями, преимущественно «территориальными»: административно-политическими, должностными и т. д. Но процесс такой замены обычно сложен и долог. При отсутствии «ускоряющего» влияния на первобытный коллектив со стороны уже сформировавшейся государственности он занимает многие века. И даже после утверждения государственного устройства кровно-родственные связи могут долго оставаться значимыми для организации господствующего класса. В условиях древневосточного общества, как подчеркивали ведущие востоковеды, «возникновение государства является столь длительным процессом… что видеть четко и ясно конец первобытно-общинного строя и зарождение государства очень и очень трудно» [Менабде, 1956. С. 168] 1. Естественно было бы ожидать, что и в Древнем Египте родственные связи почитались представителями «верхов» как очень важные.
Однако в памятниках письменности долины Нила внимание к вопросам родства – да и то не слишком большое – обнаруживается, скорее, ближе к концу египетской истории. Оно связано прежде всего с тем, что правило высоких служебных назначений от имени царя часто было простой формальностью. На деле чиновничьи и особенно жреческие должности могли на несколько поколений оставаться в одном семействе, фактически переходя по наследству. Естественно, что такое родство, дающее доступ к высокой должности с подобающим престижем и доходами, высоко ценилось. Гекатей Милетский и Геродот (II, 143), побывавшие в Египте на рубеже VI–V вв. до н. э., упоминают святилище, в котором будто бы размещались 345 статуй верховных жрецов мемфисского бога Птаха, каждый из которых был сыном предшественника 2. И хоть число статуй несуразно завышено, прообраз данного «служебнородового» святилища достоверно известен. От времени XXII династии (943–746 гг. до н. э.) сохранилась стенка небольшой модели святилища, на которой перечислены по принципу «такой-то, сын такого-то сына такого-то…» 60 (!) верховных жрецов Птаха более чем за тысячелетие, начиная с XXI в. до н. э. Предшествующий этап этой генеалогии был расписан, очевидно, на одной или двух других утраченных стенках [Borchardt, 1935. S. 96–112, Tf. 11, 11a]. Вообще же наследование должности верховного жреца Птаха продолжалось в этой кровно-родственной линии как минимум до 37–36 гг. до н. э. [Берлев, Ходжаш, 2004. С. 390]. Кроме того, от средины I тыс. до н. э. сохранились родословия более чем в десяток и даже в два десятка поколений [Posener, 1936. P. 98–105, № 14; Берлев, Ходжаш, 2004. С. 252–257, № 85, С. 300–309. № 107].
Но, парадоксальным образом, в памятниках письменности начала египетской истории – в Старом царстве, объемлющем правления III–VIII династий в XXVIII–XXIII вв. до н. э. – прослеживать родственные связи было не принято. Хоть при IV и в начале V династии высшие посты в государстве предоставлялись исключительно сыновьям царя, а прочие должности порой подолгу оставались в одном семействе, намеренные упоминания о кровнородственных связях очень скупы 3. Исследователям древнеегипетской системы родства даже приходится поэтому начинать с более поздних эпох, хоть в целом письменные источники второй половины Старого царства и многочисленны, и многословны [Franke, 1983. S. 6].
Складывается впечатление, что в средине III тыс. до н. э. «надсемейные» кровно-родственные объединения типа «род», «клан», «линидж» были чужды господствующему классу Египта. Преобладала «малая», или «нуклеарная», семья из родителей и детей [Willems, 2008. P. 215–220]. Единственный термин, в первые полтора тысячелетия египетской истории достоверно обозначавший кровно-родственную общность нескольких семей, – mhWt , в Старом царстве не засвидетельствован. Слово Abt , означавшее «родня», «большая (патриархальная) семья», «домочадцы», за полтысячелетия Старого царства встречается лишь дважды [Hannig, 2003. S. 5, 169 ; Goedicke, 1967. S. 206–213, Abb. 27 ] 4. При этом у египтян не было фамилий или иных имен собственных, указывающих на принадлежность к кровно-родственной группе. Сделать это они могли, лишь называя своих предков – отца, деда и т. д. Но на протяжении почти всего Старого царства, вплоть до правления Пепи II, патронимы и матронимы в письменности не указывались – даже притом, что самым тщательным образом перечислялись служебные титулы!
Очень непрочными выглядят в Старом царстве и межпоколенные связи живых с усопшими, хоть египтологи пока не обратили на это внимания.
Как известно, в общинных религиях III–II тыс. до н. э., чуждых учения о переселения душ и еще не обретших веры во всеобщее загробное воздаяние от богов или Бога, надежды на сносное посмертное существование связывались почти всецело с заботой о мертвом со стороны живых. Изначально это было «должное» погребение и затем регулярные поминальные жертвоприношения от продолжателей рода 5. Межпоколенная кровно-родственная солидар- ность живых с умершими казалась при этом столь непременной и незыблемой, что обычно не нуждалась в письменных текстах и, тем более, в обоснованиях. Но в Египте Старого царства данное правило, было нарушено.
Нельзя отрицать, что сыновняя верность отцу и отцовская забота о сыне (реже – о детях) упоминаются в кладбищенских жизнеописаниях египетских чиновников как высоко ценимые добродетели [Шэхаб эль-Дин, 1993. С. 162–193; Kloth, 2002. S. 61–65, 75, 76, 211–220]. Но даже само желание письменно этим похвастаться косвенно свидетельствует о том, что такое поведение уже не было всеобщей непременной нормой. Археологические материалы показывают, что, если отец умирал, не достроив свою гробницу, сыновья обычно скупились на выполнение его прижизненного замысла в полном объеме. Например, на знаменитом «каменно-блочном» кладбище Гизы к мастабе уже скончавшегося владельца было принято достраивать часовню не каменную, как он при жизни того хотел, а из дешевого недолговечного сырцового кирпича. «После того как владелец был погребен, строительная деятельность прекращалась или была сведена к минимуму», – полагает в этой связи П. Яноши [Jánosi, 1999. P. 30]. Поразительную скупость по отношению к недостроенным пирамидам предшественников проявляли даже божественные монархи. Тот же Яноши отмечает, что, «когда царь был погребен, достраивались части пирамидного комплекса, необходимые для царского поминального культа и посмертного существования (часто из худших материалов – дерева, сырцового кирпича), меж тем как остальное бросалось не законченным. От Старого царства не известно ни одной пирамиды, которая была бы завершена наследником правителя так, как она была первоначально задумана» [Ibid. P. 37, nt. 15].
Неуверенность египтян в долговременной посмертной заботе потомков, похоже, сказалась и в концепции поминального культа. Хоть реальные жертвоприношения от родственников-потомков всегда считались желательными, уже к середине III тыс. до н. э. сложилась система гробничных изображений и надписей, способная будто бы их заменить и «автономно» поддерживать загробное существование «двойника» [Большаков, 2001]. При этом дары усопшему, перечислявшиеся в так называемой «жертвенной формуле», неизменно объявлялись исходящими не от родственников, а от богов и царя. Регулярно вырезалось в камне и так называемое «обращение к живущим», призывавшее проходящих по кладбищу произнести «жертвенную формулу». Будь египтяне уверены в нескончаемых и регулярных посещениях гробницы родственниками, такое «обращение» наверное, показалось бы им излишним.
Сомнением в прочности межпоколенных родственных связей была порождена и специфически египетская практика договоров найма постоянных заупокойных жрецов, так называемых «слуг двойника» ( Hmw-kA ). Приготовлявшийся к смерти выделял в пользование «слуге двойника» часть своего имущества при условии, что жрец и его потомки будут должным образом ухаживать за гробницей и справлять поминальный культ [Перепелкин, 1988. С. 88–112; Большаков, 2001. С. 120–141]. Позже таким жрецам прямо рекомендовалось заботиться об усопшем «лучше, чем об отце, создавшем отпрыска своего» [Habachi, 1985. P. 38, no. 10, line 7, pl. 25]. Связь по договору найма казалась надежнее любви и верности со стороны сына или внука!
А сыновей и внуков подозревали в небрежении и возможных покушениях на «заупокойное» имущество. Вельможа Керери, описав свою роскошную усыпальницу, предостерегал: «…что же до всякого моего сына (т. е. потомка. – А. Д. ), который это испортит 6, он не может притязать на какое-либо мое имущество» [Kanawati, 1986. P. 49, pl. 8c, fig. 20c]. В «Поучении верноподданного», входившем в древнеегипетскую школьную программу, будущим чиновникам давался откровенный совет:
«Да позаботитесь вы (своевременно) о слугах двойников для себя: способен на предательство сын, но остается жрец, и он – (тот) услужливый, которого называют «(настоящим) наследником»
[Posener, 1976. P. 47–49, 136–137, § 14. 6–8].
В плохо сохранившемся «поучении», приписывавшемся мудрецу принцу Джедефхору (Хорджедефу), видимо, рекомендовалось нанять управляющего имуществами поминального культа, о котором далее говорилось:
«Заведи себе для (гробничных) подношений этого управляющего со слугами двойника для гробницы, которые будут [совершать тебе] возлияния, как (делают это для) человека с превосходным завещанием.
Выбери для него лучший отрезок твоего поля, ежегодно наводняемого.
Он полезнее тебе, чем твой собственный наследник, и ты предпочти его даже [сыну своему…].
[…] как сказано об этом: «смотри, нет наследника помнящего (тебя) вечно»
[Helck, 1984. P. 9–11].
Сравнительно небрежное отношение высокопоставленных египтян Старого царства к усопшим родственникам могло быть до некоторой степени связано с малым распространением в это время в данном социальном слое культа предков. Ведь даже сам вопрос его существования остается дискуссионным [Fitzenreiter, 1994]. Хоть вера в способность усопших предков влиять на судьбу живущих, по-видимому, существовала (о чем свидетельствуют «письма мертвым»), публично говорить об этом в высших слоях египетского общества было не принято. Вельможи Старого царства в кладбищенских надписях подчеркнуто придерживались важнейшего «официального» постулата о том, что их прижизненное и загробное благополучие почти всецело зависит от царя. Естественно, что и связи с предками представлялись бесконечно менее значимыми, нежели связи с царем.
Не принято было в Старом царстве открыто говорить и том, что высокое общественное положение индивида (за исключением родственников царя) достигнуто благодаря происхождению и родственным связям. Как подметили О. Д. Берлев и Т. М. Шэхаб эль-Дин, от этой эпохи не сохранилось ни одного жизнеописания, автор которого похвалялся бы своей знатностью, родовитостью. «Объяснением этому, – пишут они, – может быть только то, что царям IV–VI династий удавалось контролировать эту родовую аристократию настолько, что принадлежность к тому или иному знатному роду действительно ощущалась как нечто второстепенное. Даже наследование должностей, которые, несомненно, в большинстве случаев переходили от отца к сыну… так зависело от царя, было столь ненадежным, в стиле “сегодня есть – завтра нет”, что хвастаться своей родовитостью, знатностью никому не приходило в голову» [Шэхаб эль-Дин, 1993. С. 164–165]. Показательно, что, когда с гибелью Старого царства централизованная монархия ослабнет, вопросам родства станет уделяться заметно больше внимания [Демидчик, 2005. С. 109–112].
Для нас здесь, однако, важно, что уже к средине III тыс. до н. э. «египтяне из народа, связанного сетью родственных групп, превратились в “народ государственный” (ein “Staatsvolk”)» [Franke, 1983. S. 350]. И эта поразительно рано фиксируемая перемена неизбежно заставляет задаться вопросом, в какие сроки и при каких обстоятельствах столь фундаментальный переворот мог совершиться. Гипотетически возможны два ответа: (1) либо складывание древнеегипетской государственности началось много раньше, чем принято считать 7; (2) либо в какой-то момент, не отразившийся в письменности, царская власть решительными и суровыми действиями надолго отбила у господствующего класса охоту кичиться высоким происхождением и родством. В последнем случае параллель с послереволюционной Россией, где потомки дворянских родов, встраивавшиеся в советский строй, спешили «забыть» о своем «высоком» происхождении, может оказаться небезынтересной.
THE EGYPTIANS NEGLECTFUL OF THEIR PARENTAGE