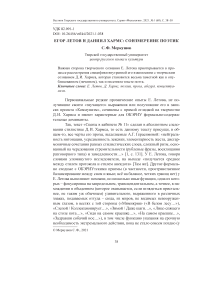Егор Летов и Даниил Хармс: соизмерение поэтик
Автор: Меркушов Станислав Федорович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
Важная сторона творческого сознания Е. Летова приоткрывается в процессе рассмотрения специфики внутренней его взаимосвязи с творческим сознанием Д.И. Хармса, которая становится весьма заметной как в опубликованном (печатном), так и песенном тексте поэта.
Е. летов, д. хармс, поэзия, проза, абсурд, концептуализм
Короткий адрес: https://sciup.org/146282277
IDR: 146282277 | УДК: 82.091-1 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.1.038
Текст научной статьи Егор Летов и Даниил Хармс: соизмерение поэтик
Первоначальные редкие прозаические опыты Е. Летова, не получившие своего «звучащего» выражения или получившие его в записях проекта «Коммунизм», сочинены с прямой оглядкой на творчество Д. И. Хармса и имеют характерные для ОБЭРИУ формально-содержательные доминанты.
Так, текст «Сцены в кабинете № 11» сделан в абсолютном следовании стилистике Д. И. Хармса, то есть данному тексту присущи, в общем-то, все черты его прозы, выделяемые А.Г. Герасимовой: «нейтральность интонации, усредненность лексики, элементарность жеста, дисгармоничные сочетания разных стилистических слоев, сложный ритм, основанный на чередовании стремительности (рубленые фразы, восклицания разговорного типа) и замедленности…» [1, с. 131]. У Е. Летова, говоря словами упомянутого исследователя, на выходе «получается среднее между стилем протокола и стилем анекдота» [Там же]. Другие формально сходные с ОБЭРИУтскими приемы (в частности, пространственное балансирование между сном и явью; всё на балансе, четких границ нет) у Е. Летова выполняют похожие, но несколько иные функции, одна из которых – фокусировка на запредельном, трансцендентальном, а точнее, в нахождении в обыденном (которое оказывается, если вглядеться пристальнее, не таким уж обычным) удивительного, выраженного в различных знаках, подаваемых оттуда – сюда, из миров, не видимых невооруженным глазом, в вестях с той стороны («Мимикрия» («В белом лесу…»), «Слепой / Коллекционирует…», «Зимой / Даже шаги…», «Лицо спящего на столе кота…», «Сидя на самом краешке…», «На самом краешке…», «Задравши собачий нос…»), в том числе функцию указания на срочную необходимост ь экстремального действия, пока не стало совсем поздно (у
Д. И. Хармса, к примеру, часто знаки могут не нести «метафизической» нагрузки). Причем действие нужно совершать сейчас, в данный конкретный момент («Глубокий старик», «Блюз» и т. п.). (В одном из интервью Е. Летов ссылается на пословицу «Можно привести коня к водопою, но нельзя заставить его пить» и говорит о работе «Гражданской обороны» в этом направлении как демонстрации способов действий в критических, экстремальных, пороговых ситуациях, а также передаче некоего значимого опыта, позволяющего оценивать условия, в которых оказывается экзистенциальный человек [11]. Во-первых, важно намерение человека, во-вторых, нужно правильно осуществить это намерение.) В этой связи в летовских текстах с самого начала доминирует аспект воссоздания и репрезентации метафизической целостности, слитости всех частей мироздания, от мельчайших до громаднейших, в непрерывном взаимодействии. Процесс этого воссоздания осуществляется через демонстрацию той разрозненности, хаотичности, абсурдности, бессмысленности, в которой пребывает действительность, окружающая субъекта и находящаяся внутри него (к примеру, текст «Игра в лицо (руководство)» построен в первую очередь на свойственном поэтике Д. И. Хармса приеме дезинтеграции).
Е. Летов обращается к частотному в прозе и поэзии Д.И. Хармса образу трамвая. В творчестве Д.И. Хармса образ-символ трамвая возникает не менее двух десятков раз – и традиционно понимается аллегорически, иллюстрируя разные аспекты взаимосвязей между людьми (см., к примеру: [9]).
У Е. Летова образ трамвая проходит через всё творчество (см. также: [15]), коррелируя с примыкающими к нему образами автобуса, троллейбуса, поезда. Впервые появляется в стихотворении «Трамваи по городу…» (1983), где традиционный символ осажденного блокадного города, на наш взгляд, трансформируется, теряя официальное, «положительное», значение (хотя оно, несомненно, присутствует: на трамваях вывозили людей к местам эвакуации), становясь напоминанием о реальном положении вещей без наивного и, на деле, чуждого сострадания оптимизма, знаком «тяжких времен» [12, с. 15], голода, олицетворением гибели людей, а ко времени написания текста, судя по лексическому его наполнению, ставшего и знаком человеческого взаимного отчуждения, отчуждения от прошлого («Снег холод груз грязь», «Грозное небо» [Там же]). Таким образом, закрытое пространство трамвая уже здесь приобретает смысл человеческой жизни (о специфике смыслов закрытого и открытого пространства в творчестве Е. Летова см.: [13]), который далее, в других стихах, приобретет особую специфику, сходную с хармсовской. Во второй половине стихотворения пространство размыкается, утверждая развоплощение лирического субъекта как творческое слияние и взаимо- действие со всем окружающим: «И вот всё хочется чтобы / Улечься на землю пластом / Срастись с ней всецело / И смотреть в суровые мудрые небеса / Взглядом зверька / На ладонь занесённую / Словно мышь / Под накрывающей её ладонью / Среди свистящей травы» [12, с. 15]. Между тем интуитивная связь с Д. И. Хармсом может наблюдаться и здесь – на биографическом уровне. Судя по датировке стихотворения и времени написания, скорее всего, совпадающим с ней (14.12.1983), а также и прежде всего, по его формально-содержательной структуре, образ Д. И. Хармса, погибшего от голода в блокадном Ленинграде в психиатрической больнице НКВД, мог возникнуть в поэтическом сознании Е. Летова в процессе работы над текстом.
Во второй раз образ трамвая появляется в стихе «С этого-то всё и началось» (1985). Трамвай также становится здесь стержневым образом, приобретая, в частности, важные характеристики – уменьшительный суффикс и особое определение: «трамвайчик резиновый» [Там же, с. 117]. Учитывая данные характеристики, образ можно интерпретировать как минимум с трех точек зрения. Первая связана с идиомой «не резиновое что-либо», означающей, что вместимость данного объекта ограниченна. Словосочетания резиновый / не резиновый трамвай использовал в своем стихотворении «Трамвай поэзии» Е. А. Евтушенко. Возможность соотнесения этого и летовского стихов достаточно косвенна: всё-таки во втором о поэзии вроде бы не говорится (но в том-то всё и дело, что она там есть как таковая), в то время как лирический субъект первого убежден, что трамвай поэзии «резиновый» и способен принять всех, особенно тех, «кто хочет в трамваи влезть, / когда их туда не пущают» [7, с. 406]. В этом отношении с Е. А. Евтушенко больше коррелирует Ю. Шевчук («Поэт»), хотя у него образ трамвая заменен на очередь, «толпу, стоящую за искусством» (цит. по фонограмме: [4]). У Д. И. Хармса «резиновых» трамваев не случалось, но всё равно Е. Летов ближе к нему, поскольку здесь снова появляется метафизический уровень, выраженный в разрушении традиционной пространственно-временной структуры. В данном случае наблюдаем характерный для Е. Летова прием, когда название вступает в причинно-следственные связи с самим текстом, причем не в устойчивом понимании названия как «свёрнутого текста», но как его «результата»: «С этого-то всё и началось». Рецепция необъятности и беспредельности мира и миров, – в чем и заключается поэзия и чудо жизни, «всего» вокруг, – и начинается с остраненного мировосприятия, где «Мягкие ветви / Найдутся в тумане / И красный трамвайчик / Проедет почти перед самым лицом / Словно резиновый / И настоящий» [12, с. 117]. Именно относительность и спорность обыденных оценок хронотопических и предметно-объектных связей позволяет рассматривать образ «трамвайчика» как одновременно «резинового и настоящего» [Там же]. Подлинное не имеет четких очертаний и определений, с ним рядом находится осознание существующего реально как именно того, что не реально с общепринятой точки зрения. С такой интерпретацией образа / символа трамвая сопряжены вторая и третья трактовки. С одной стороны, перед нами проекция специфической советской игрушки – модели трамвая, способного в детском сознании вместить всех и объективно сделанного точь-в-точь («словно») как настоящий. С другой, обнаруживается параллель с любимым примером-экспериментом А. Эйнштейна, подтверждающим его общеизвестную теорию, который он обдумывал во время поездок на трамвае по улицам Берна. Трамвай или поезд становится как бы «резиновым» в процессе движения, натурально меняя свои размеры [17]. Образ «резинового трамвайчика» еще не раз возникнет в стихах Е. Летова, и именно он характерен своей самобытностью (особенно показательное в этом смысле – «Офелия» (1991)).
«Трамвай» – образ-символ – и «трамвай» – основное пространство действия – у Д. И. Хармса и Е. Летова находятся в художественном «симбиозе». Текст Хармса «Едит трамвай. В трамвае едут 8 пассажиров…» [16, с. 216] эксплицирует авторскую рецепцию мироздания и места человека в нем (подробнее: [9]). Е. Летов перенимает у Д.И. Хармса образ-символ трамвая и смежного по отношению к нему пространства, в некоторой степени преображая его («В автобусе или троллейбусе…»). Если у Д.И. Хармса все характеристики персонажей и повествование в целом достаточно четкие и выверенные – у него универсум предстает хотя и в зашифрованном, но цельном и, как выясняется, сбалансированном (равновесие – термин чинарей) виде (органичность которого остается недоступной человеческому восприятию), то у Е. Летова нарочитая неопределенность и размытость описаний напрямую свидетельствуют о смутности человеческих представлений о космосе, невозможности описать его с помощью конкретных категорий («автобус или троллейбус», «полиэтиленовый или целлофановый», «скорее всего, апельсины», «контролёр или кондуктор» [12, с. 129]). Одновременно такая неточность воспроизведения может предполагать и несущественность в данном случае обозначенных деталей (в данный период творчества (1980-е гг.) Е. Летов неоднократно показывал «нефункциональность» большинства человеческих стремлений и чаяний, релятивность мнений и оценок, в том числе пространственно-временного и количественного восприятия («ниже – выше – всё равно», «сёдня – завтра – всё равно», «больше – меньше – всё равно» [2]) в сравнении с чем-то более важным, имеющим отношение к экзистенциальной подлинности, истине. Третий вариант – подобное соотношение может означать всегда присутствующую у человека возможность выбора, к примеру, как воспринимать вид транспорта, в котором ему предлагается путешествовать: автобус всё же имеет потенциальную способность ехать куда угодно и где угодно, а маршрут троллейбуса строго определен. Как раз-таки пассажир в тексте, маркированный, по-види-мому, как микрокосм, в том числе олицетворяющий собой человечество, охарактеризован достаточно однозначно («простой», «совсем обыкновенный», «в поношенной телогрейке, в поношенных валенках, в поношенном сером лице» [12, с. 129], – характеристики «поношенности» могут обусловливаться подключением и социальной трактовки образа), и «обычная» природа летовского пассажира не мешает ему ехать в автобусе или троллейбусе «на край земли» [Там же].
Что такое этот «край земли»? «Край земли» соотносится с понятием «места́», встречающимся в ранних текстах Е. Летова. Важно сказать несколько слов о позиции лирического субъекта / героя раннего Е. Летова по отношению к миру. Лирический субъект / герой постоянно ощущает свою противопоставленность мировому порядку, который он понимает как враждебный, причем не столько самому себе, сколько некоему экзистенциально-романтическому идеалу мироустройства, а также враждебным не только себе как единице, но и «нам», как множеству воспринимающих мир аналогично. Антитеза «мы – они» обнаруживается в текстах «Мы – лёд», «Перемена погоды», «Попс», «Джа на нашей стороне» и др. Последний («Джа на нашей стороне») представляет собой, на первый взгляд, вполне безыскусный панк-текст, текст протеста. Такие тексты Е. Летов писал в это время достаточно активно, и это мог бы быть один из многих, если бы не одно «но»: «Мы сидим в густых местах / Джа на нашей стороне» [12, с. 192]. «Густые места» – дислокация «нас» – условно говоря, апологетов, носителей знания, истины, Бога в широком понимании (ибо «Джа» именно «на нашей стороне») и т. п. (в то же время можно, конечно, понимать текст прямолинейно – с точки зрения растафарианских толкований. В растафарианской интерпретации расхожего библейского сюжета чернокожие, подобно иудеям, в качестве наказания Яхве (Джа) за грехи, были порабощены белыми (европейцами и их потомками – колонизаторами Африки). Теперь африканцы пребывают под владычеством Вавилона – метафоры современного социально-политического устройства, базирующегося на материалистических идеологии и ценностях. Они ждут вторичного прихода Джа, который избавит их от страданий и выведет в «землю обетованную», в «рай на земле» – Эфиопию. Ввиду такой трактовки «вы» – это белые или вообще те, кто декларировал Вавилон, «мы» – угнетенные («Ведь нам ужасно голодно / Нам ужасно холодно…» [Там же]). Такая рецепция контактирует также с содержанием песни «Мы в глубокой жопе», образная система текста которой граничит с «Джа на нашей стороне»: «Благая травка, великий Джа, / Полёт с девятого этажа. / Весёлый праздник R a s t a f a r i / Другое место, т е р н о в ы й р а й» («Мы в глубокой жопе» [12, с. 236]; полужирный шрифт и разрядка наши. – С. М.). Рай тоже не предполагает освобождения («терновый»), а скорее олицетворяет собой продолжение мучений.
Потому и в тексте «Автобус едет в места», коррелирующем с текстом «В автобусе или троллейбусе…», избрание лирическим субъектом автобуса как «свободного» средства передвижения и пространства в нем как одновременно некачественного и затейливого («Я сел никудышно / Я сел хитроумно»), а пункт назначения – «места́», на наш взгляд, обнаруживает ту же амбивалентность. А именно, «места́» могут быть не только «местами, где «мы сидим», но и, как и «Край земли», и т. п. – «потерянным раем», куда нужно стремиться, куда и едет «человек в поношенном сером лице», хотя этот рай и не станет «панацеей». Ну и, конечно, напомним, что «край земли» в мистических традициях – это не место, где земля кончается, а конец времён.
Кондуктор у Д. И. Хармса в тексте «Едит трамвай…», как, в общем, и везде, играет роль «субъекта» высшего порядка: он регулирует взаимодействие человека и мира, человека и метафизических сил (подобные функции выполняют у него и ангелы, волшебники, сторожа, дворники, военные, старички и старухи). Д.И. Хармс часто отказывает человеку в способности осмыслить свое бытие, приблизиться к постижению истины. Даже нарушивший равновесие вошедший в трамвай девятый человек (вероятно, аллегорический образ художника в широком значении) может вывести из статики находящихся там людей и совершить свое «продвижение» лишь после ритуальной его сакрализации, что выражается в виде тройного внушения остальным о необходимости движения, причем «всколыхнуть» можно лишь стоящих, особенно человека, смотрящего в окно. Этот пассажир-наблюдатель, воспринимающий настоящую действительность за пределами вагона, стоит впереди всех и находится ближе всех к выходу. Он способен на отклик, близок к метафизическому пониманию, однако понимание это весьма ограниченно. Потому он и отвечает на требования о необходимости продвинуться дальше: «А куда тут продвинишься, что ли, на тот свет» [16, с. 216]. Этот ответ маркирует типичные ментальные и мировоззренческие установки «среднего» человека на то, что жизнь – это только движение к отсутствию, максимальный экстремум жизни – это переход на «тот свет».
У Е. Летова «контролёром или кондуктором» является нарратор, что вкупе с пониманием высокой функции кондуктора дает некую экзистенциальную формулу бытия. Автор текста становится демиургом мироздания, посредником в коммуникации между ним и человечеством. «Простой человек» Е. Летова более деятелен, чем у Д.И. Хармса, наделен большей свободой воли, так как только от его выбора зависит, куда ему направляться: однако даже после вручения билета он не изменяет своего решения – «на край земли» повторяется дважды.
Одновременно текст «В автобусе или троллейбусе» прямо коррелирует с текстом Д. Хармса «Молодой человек, удививший сторожа» [16, с. 380]. Молодой человек обращается к сторожу (равному проводнику между мирами, пограничнику) с вопросом о том, как пройти на небо. Сторож требует у него билет, – молодой человек говорит, что у него нет билета, так как некие «они» «говорили, что меня и так пропустят» [Там же]. Затем сторож еще несколько раз переспрашивает, куда ему нужно, видимо, с целью разубедить храбреца, последний непреклонен, и тихо , прикрыв рот, отвечает «На небо», – и исчезает. В тексте «В автобусе или тролейбусе» Е. Летов, как видим, создает практически идентичную харм-совской ситуацию, но у него, повторим, основной упор делается на образ пассажира, который немолод либо весьма опытен («в поношенном сером лице») и поэтому, может быть, собрался «на край земли».
Образ трамвая фигурирует в поэзии Е. Летова также в качестве аллегории взаимосвязей между людьми и в то же время стремления людей отменить, не замечать эту взаимосвязь либо же фокусироваться только на своем, своих коллективных энтропийных интересах, не видя тех, кто пытается приоткрыть завесу мрака, сделать мир светлей («Трамвай задавит его наверняка…» (1986); косвенно «Человека убили автобусом…» (1986), и др.). Подобную функциональность этот образ приобрел и в творчестве Д. И. Хармса (особенно нагляден в этом смысле текст «Связь».
Поезд (реже паровоз) как один из вариантов образа трамвая (назовем его метаобразом) получает у Е. Летова иную, сравнительно более расширенную рефлексию, хотя и сохраняет то основное, что уже присутствовало ранее. Паровоз может быть более свободным хронотопически, сохраняя танатологическую рецепцию («Паровозы над горизонтом заборов / Прямо по кладбищам» («Он идет, его не слышно» (1984)); «Пронёсся сгорающий поезд – / Никто не поднял / Головы» («Ящер» (1985)). Косвенно образ поезда, рецепция которого уже сильно приближена к рассмотренным смыслам, появляется в пятом стихотворении «белой книги» – «Конкретная поэзия № 1» (1983) [12, с. 7], но здесь он выведен «за скобки», за текст. Это единственное во всем издании стихотворение, сопровожденное уточнением о месте его написания – «Москва, электричка», – где электричка становится художественным пространством, в котором или над которым находится сам автор, слышащий и записывающий реальные разговоры пассажиров, посредством монтажной склейки в итоге реализовавшиеся в коллаж со всеми свойственными направлению конкретной поэзии формальными признаками, в первую очередь буквализацией и контекстностью слова. Безусловно, и здесь, кроме естественных в данном случае связей с лианозовской группой (И. Холин, Вс. Некрасов и др.), а через нее – с московским концептуализмом, есть точки соприкосновения с Д. И. Хармсом, повествования которого часто принимают вид документальных, c ситуациями, несмотря на всю их видимую абсурдность и фантасмагоричность, нередко одновременно выглядящими как подслушанные / подсмотренные и вполне «конкретные».
С «трамвайно-поездной» тематикой коррелируют и образы более открытых и раздвинутых пространств, рядом с которыми сосуществуют, опять же, так называемые танатологические зоны. «Железнодорожная насыпь» в тексте «Идеальное место для убийства» (1985) [12, с. 84] именно становится таким местом (в которое можно попасть через кладбище, то есть, по сути, покинув тело), где душа освобождается от телесной оболочки, где происходит умирание тела, но на поверку в момент убийства – метафизического перехода из одного состояния в другое – слияния субъекта и объекта – осуществляется новое рождение-освобождение («рванулся из тела», «НАСТИГ ЕГО» [Там же]). Этот текст напрямую коррелирует с короткой более поздней зарисовкой под названием «Заброшенная ж-д» (1986) [12, с. 133], где субъект также погибает насильственной смертью и его не находят, то есть воспроизводится аналогичная рассмотренной, если не та же самая, ситуация телесной смерти-освобождения души / сознания или убийства эго, характерная, в общем, своей положительной рефлексией, связанной с переходом в состояние абсолютной «ненаходи-мости» («Вот здесь-то меня и убили. / А потом не нашли» [Там же]), понимание которого, вероятно, сочетается с суждениями, содержащимися в религиозно-философских учениях Востока, шаманскими традициями различных народов и т. п. (см. в этой связи Упанишады, «Дао дэ цзин», «Тибетская книга мертвых», книги К. Кастанеды и пр., а также такие тексты Е. Летова, как «Он стиснув зубы смотрел мне вслед…», «Я иллюзорен» [12, с. 179, 185] и мн. др.)
Особый и наиболее выпуклый ракурс взаимосвязь Д. И. Хармса и Е. Летова приобретает вкупе с безусловной нарративно-структурной корреляцией раннего творчества Е. Летова и концептуалистской школы, также базирующейся на принципах абсурдистики, на что также обращали внимание исследователи (к примеру: [8]). Отношение к концептуализму Е. Летова в разное время было разным, часто не положительным: «Это как развлечение стало для них для всех. <…> А развлекать кого бы то ни было я вот чей-то не хочу. <…> Пусть этим Пригов и Ко занимаются» [6]). Между тем жена поэта Н. Чумакова подчеркивала, что именно в 1980-е годы Е. Летов поддерживал отношения с концептуалистами (см.: [3]). Заметим сразу же, что под «маркой» проекта «Коммунизм», имеющим огромное количество пунктов коммуникации с концептуальным искусством, Е. Летовым и единомышленниками выпущены как минимум две композиции на слова Д.И. Хармса («Встреча» и «Рассказ об одном человеке» (альбом «Чудо-музыка» (1989)) По мысли Ю. Б. Орлицкого, у Е. Летова был «свой» – контркультурный – концептуализм [Там же], род- ственный подобным экспериментам группы «ДК», арт-групп «Мухомор» и «Среднерусская возвышенность».
Структурная и семантическая концептуальность характерна для текста «Зказка напоследок» (1982). Им открывается собрание искомых стихов [12], он единственный датирован 1982 годом, так что можно более-менее уверенно утверждать, что перед нами одно из первых или первое сохранившееся законченное произведение Е. Летова. В нем уже представлены во вполне разборчивом виде характерные, по крайней мере, для его раннего творчества приемы. Более того, в смысловом отношении в данном тексте определяется творческий локус художника в его трансцендентальных связях с окружающим и внутренним пространством, рецеп-торно постигаемым. Фиксация жанровой специфики в названии, причем с акцентом на некой футуристической тенденции, уже очерчивает важные грани содержания: авангардность, фольклорность, утопизм и антиутопизм, сосредоточенность на абсурде в самом широком его толковании.
Жанровая специфика заглавия актуализирует прежде всего фольклорную составляющую творчества Е. Летова, характерную также и для Д. И. Хармса («Шапка», «Новые альпинисты», «Басня» и др.), и для московского концептуализма (к примеру, циклы о милиционере («милицане-ре») Д.А. Пригова). «Зказка напоследок» может представляться как некий дериват докучной сказки, в которой действие закольцовано, текст основан на повторах, рекурсии. С другой стороны, орфографическая неправильность написания главного слова в названии фокусирует внимание не только на традиционности подобных экспериментов для последовательных футуристов (А.Е. Кручёных) или ОБЭРИУтов (Д. И. Хармс), но и допускает некоторую «разомкнутость» в пространство будущего, приводит в движение рычаги жанровой эклектики (в широком понимании) текстов Е. Летова, в данном случае ощущается связь с утопией и антиутопией (М. Кучеренко и А. Ярко, Ю.В. Доманский, исследуя творчество Е. Летова, справедливо полагают, что «антиутопические мотивы могут быть выражены и в лирике» [10, с. 90] и «принципиальная разница тут с традиционной эпической антиутопией заключается в том, что ужас передаётся “через внутренний мир субъекта”» [5, с. 159]), здесь – в формах взаимодействия советских реалий, праистории и/или постапокалипсиса (среди песен – «Он увидел Солнце», «Здорово и вечно», «В стену головой», «Детский мир», «Дезертир» и пр.). Написание «зказка» актуализирует и перекодировку понятия, что характерно для творчества Д.И. Хармса (ср. также в других текстах и песнях Е. Летова специфику нумерологической маркировки и кодирования, подобной хармсовской («Бред (Кошмар)», «Во́роны», «Перемена погоды», «Сцена в кабинете № 11» и др.).
Одновременно в заглавии фиксируется пороговость: жанр сказки предполагает повествование о том, чего нет в реальности, точнее, предус- матривает наличие бинарной оппозиции реального и ирреального; форма «напоследок» отсылает, опять же, к некому знаку границ, предполагающему множество трактовок, сводимых в итоге к модусу ключевого перехода из одного состояния в иное.
Пространство текста возможно делить на две части – внутри субъекта и снаружи субъекта (это частотный структурный принцип ранних произведений: ср.: «История одной радости», «Посмотрел в дырку», «Внутрь!» и др.). «Вечернее» появление героя, противополагание пейзажа природного и урбанистического, естественного статуса индивида («И вот пошёл я вечером гулять – люблю вечером. Почему-то вечером всегда мокрой землёй воняет, вернее – земляной водой. И кайф поэтому. Читаю я на бетонном заборе: “МИРУ МИР”, и пружинка у меня под ногой: БЗЫНЬ. А солнце обалденное светит и от мово лица отражается и ещё светит» [12, с. 3] и аномальных ситуаций («Наступаю я сапогом на газету, а это кусок “Омской правды”. Остановился я, надавил каблуком – гляжу, под давлением из газеты омская правда в чистом виде выступила, растеклась чёрной лужицей, затвердеть грозится и пахнет, как свежий поролон. Я конечно не стал унижаться, упускать шанса, взял, да и намазал ей свои новые хромовые сапоги» [Там же]) как эксплицированные приметы рубежного положения сходятся в тревожном и/или побудительном маркере для субъекта [Там же]. После этого окружающий мир приобретает ирреальные очертания, выраженные в управлении контекстом, буквализации метафорики: выделение омской правды из газеты «Омская правда» (эта правда, конечно, фиктивная, раз получена под давлением и стоит лишь того, чтобы ее применяли вместо гуталина; а кроме того, уточнение, что правды этой – «кусок», вызывает вполне определенные ассоциации), просачивание «кайфа» субъекта через респиратор наружу (ср. «Вечерняя сказка», где в одном предложении описана обратная ситуация – субъект поглощает запах постапокалипсиса – снова положение «между»: «Когда все листья разом упали с деревьев, и от удара с земли поднялся густой дымный запах – я стал вдыхать и вдыхать и вдыхать не останавливаясь ни на секунду – пока лёгкие не взорвались с красным звуком. Чуть не опоздал» (3.10.84) [12, с. 63]. Последнее обстоятельство становится причиной избавления героя от эго («догадался, что сам представляю собой очередной мусор» [12, с. 3] и понимания необходимости своей дислокации, как и всего остального, «в строго неопределенном месте» [Там же] («место присутствия» у М. Хайдеггера [14]). Новый звук пружины сигнализирует о новом витке повествования. В «Зказке напоследок» содержатся многие образы, получившие развитие в других ранних текстах Е. Летова («Блюз» (1984), «Сижу у забытой дороги…» (1984), «От всей души желаем вам…» (1985), «Жёлтая пресса» (1986), «Слепите мне маску» (1986), «Мы – лёд» и др.).
Выделим основные признаки, позволяющие соизмерять стихотворные принципы Е. Летова и Д. Хармса, выявить сходства и отличия их поэтик в целом.
-
1. Поэтические техники и ориентиры: в разной степени отказ от рифмы – у Е. Летова – принципиальный, у Д. И. Хармса – частичный; отказ от традиционной орфографии и пунктуации; сочетание прозаических и стихотворных фрагментов; установка на аграмматизацию, характерную для детской или нарушенной речи (афазий), и эгоцентризм речи, часто без попыток принять или осмыслить другую точку зрения; эпатаж; цитация и автоцитация. Заумь в стихах Е. Летова, по словам Ю. Б. Орлицкого [3], непосредственно «связана с чтением ОБЭРИУтских текстов»; следование народному (раёшному) стиху; абсурд и бессмыслица, распад обыденной логики, алогизация; одновременная связь Е. Летова с концептуалистами, которые сами ориентировались во многом на ОБЭРИУ, в частности, на Д. И. Хармса, ориентация Д. И. Хармса, в свою очередь, в определенной степени на футуристов и западную поэзию.
-
2. Поэтические темы, мотивы и образы: попытка выхода за всяческие пределы, мистичность, проникновение в инобытие, метафизика; внимание к пограничным состояниям, танатологические и сновидческие мотивы и образы, деструктивные мотивы (разрушение телесности; преодоление пространства, времени).
Таким образом, творчество Е. Летова 1980-х годов очевидно коррелирует с творчеством Д. И. Хармса (а также с творчеством концептуалистов). У обоих авторов противоположные представления могут быть в одно и то же время истинными (неаристотелевский мир), пространство у них геодезично, а не линейно (неэвклидовский мир), а причинно-следственные связи нереальны (неньютоновский мир). Оба утверждают наличие множественности миров, продвигают идеи существования сверхреальности, доказывая, что человек – часть чего-то большего, чем он сам, чего-то, что не ограничивается видимым пространством и традиционным пониманием времени. Между тем связь Е. Летова и Д. И. Хармса прослеживается и далее, причем связь эта не только «текстовая», но идейная, и видится она уже не в ранних стихах Е. Летова, иногда относящихся ко времени освоения им различных поэтических техник и, что характерно, индивидуальных поэтик, но написанных уже вослед Д. И. Хармсу, в гораздо более поздних – 1990-х и 2000-х гг.
Об авторе:
МЕРКУШОВ Станислав Федорович – кандидат филологических наук, главный специалист Центра русского языка и культуры Тверского государственного университета (170100, Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: stas2305@gmail. com.
About the author:
Список литературы Егор Летов и Даниил Хармс: соизмерение поэтик
- Герасимова А. Г. Проблема смешного. Вокруг ОБЭРИУ и не только. М. : Синергия, 2018. 416 с.
- «Гражданская оборона»: официальный сайт группы [Электронный ресурс]. URL: http://www.gr-oborona.ru/texts/. (Дата обращения: 11.09.2019.)
- Дискуссия «Об особенностях летовского стиха» [Электронный ресурс] // YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=hZOKQtwAAzU. (Дата обращения: 17.11.2020.)
- ДДТ. Я получил эту роль [Фонограмма] / ДДТ – Ленинград, 1988 г.
- Доманский Ю. В. Насекомые Егора Летова – лирическая антиутопия? // Русская рок-поэзия: текст и контекст. № 20 / Уральский гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2020. С. 158–173.
- Домой С. 200 лет одиночества. Интервью с Егором Летовым [Электронный ресурс] // Гражданская оборона. URL: http://www.gr-oborona.ru/pub/anarhi/1056981372.html. (Дата обращения: 11.09.2019.)
- Евтушенко Е. А. Собрание сочинений. Т. 5 . М.: Э, 2016. 736 с.
- Жогов С. С. Концептуализм в русском роке («Гражданская оборона» Егора Летова и Московская концептуальная школа) // Русская рок-поэзия: текст и контекст: Сб. науч. тр. Вып. 5 / Твер. гос. ун-т. Тверь, 2001. С. 190–202.
- Захаров Е. В. Образ трамвая в малой прозе Д. Хармса // Русская литература ХХ века: проблемы изучения и обучения. Ч. II. Секционные доклады ХII Всероссийской научно-практической конференции / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2006. С. 107–111.
- Кучеренко М., Ярко А. «Русское поле экспериментов» Егора Летова как антиутопия в лирике // Летовский семинар. М.: Bull Terrier Records, 2018. С. 88–97.
- Летов Е. Интервью в Москве 16.05.1997 [Электронный ресурс] // YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=0MDuQvAJKlg. (Дата обращения: 17.11.2020.)
- Летов Е. Стихи. М. : Выргород, 2018. 548 с.
- Пауэр К. Ю. Структура художественного пространства в русской рок-поэзии: Александр Башлачёв, Егор Летов, Янка Дягилева : автореф. дис. … канд. филол. н.: 10.01.01 / К. Ю. Пауэр ; Рос. ун-т дружбы народов. М., 2018. 18 с.
- Хайдеггер М. Бытие и время. М. : Ad Marginem, 1997. 452 с.
- Харитонова З. Городской транспорт в лирике Егора Летова // Летовский семинар: Феномен Егора Летова в научном освещении. М.: Bull Terrier Records, 2018. С. 66–75.
- Хармс Д. Случаи и вещи. М.: Мировая классика, 2013. 416 с.
- Эйнштейн А. О специальной и общей теории относительности. М. : Госиз-дат, 1922. 79 с.