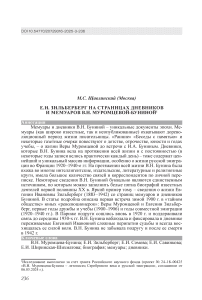Е.И. Зильберберг на страницах дневников и мемуаров В.Н. Муромцевой-Буниной
Автор: М.С. Щавлинский
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
Мемуары и дневники В.Н. Буниной – уникальные документы эпохи. Мемуары (как широко известные, так и неопубликованные) охватывают дореволюционный период жизни писательницы. «Ранние» «Беседы с памятью» и некоторые газетные очерки повествуют о детстве, отрочестве, юности и годах учебы, – о жизни Веры Муромцевой до встречи с И.А. Буниным. Дневники, которые В.Н. Бунина вела на протяжении всей жизни и c постоянностью (в некоторые годы записи велись практически каждый день) – тоже содержат ценнейший и уникальный массив информации, особенно о жизни русской эмиграции во Франции 1920–1940-е гг. На протяжении всей жизни В.Н. Бунина была вхожа во многие интеллигентские, издательские, литературные и религиозные круги, имела большое количество связей и корреспондентов по личной переписке. Некоторые сведения В.Н. Буниной буквально являются единственным источником, по которым можно заполнить белые пятна биографий известных деятелей первой половины XX в. Яркий пример тому – сведения о жизни Евгении Ивановны Зильберберг (1883–1942) со страниц мемуаров и дневников Буниной. В статье подробна описана первая встреча зимой 1900 г. в «тайном обществе» юных «революционерок»: Веры Муромцевой и Евгении Зильберберг, первые годы дружбы и учебы (1900–1906) и годы совместной эмиграции (1920–1940 гг.). В Париже подруги сошлись вновь в 1920 г. и поддерживали связь до середины 1930-х гг. В.Н. Бунина наблюдала и фиксировала в дневнике переживаемые Евгенией Ивановной сложные перипетии судьбы и всегда восхищалась ее силой воли. В.Н. Бунина не забывала подругу и после ее смерти в 1942 г.
В.Н. Муромцева-Бунина, Е.И. Зильберберг, Е.И. Сомова, Е.И. Савинкова, Е.И. Ширинская-Шихматова, биография, мемуары, дневники
Короткий адрес: https://sciup.org/149149393
IDR: 149149393 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-236
Текст научной статьи Е.И. Зильберберг на страницах дневников и мемуаров В.Н. Муромцевой-Буниной
V.N. Muromtseva-Bunina; E.I. Zil’berberg; E.I. Somova; E.I. Savinkova; E.I. Shirinskaia-Shikhmatova; biography; memoirs; diaries.
Долгое время творческое наследие В.Н. Буниной отодвигали на второй план или обходили стороной, воспринимая Веру Николаевну исключительно как верную жену, соратницу и помощницу И.А. Бунина; а после смерти писателя как его биографа и хранительницу архива писателя. В последние годы интерес к В.Н. Буниной-писательнице возрос (см.: [Рогачевская 2019; Пономарев 2022; Щавлинский 2024]). В рамках гранта «Полное собрание сочинений В.Н. Муромцевой-Буниной: архивное исследование, комплексное изучение, издание» (при поддержке РНФ, № 22–28–01340) изучены и подготовлены к печати не только классические «Жизнь Бунина» и «Беседы с памятью», а также, так называемые «ранние» «Беседы с памятью» [Пономарев 2022] и очерки 1920–1930-х гг. [Щавлинский 2024]. В этих текстах ярко проявляется творческая самобытность В.Н. Буниной, а существенное количество текстов посвящено не периоду жизни с Буниным, а «Жизни Муромцевой» (см: [Щавлинский 2024, 145]). Многие документы из архива В.Н. Буниной еще ждут своего исследователя. Дневники В.Н. Буниной – еще один интереснейший документ эпохи. Вера Николаевна как летописец фиксировала почти каждый день (с конца 1910
по 1950-е гг.) все значимые события из жизни русской эмиграции в Париже. Дневник писательницы содержит уникальные и неизвестные свидетельства о жизни русской эмиграции во Франции.
Яркий тому пример – судьба Евгении Ивановны Зильберберг (1883– 1892) – сестры революционера-террориста Льва Зильберберга (1880–1907), деятельницы революционного подполья. Она родилась в Елисаветграде, в 1890-е гг. проживала с семьей в Москве. В мае 1901 г. Евгения Ивановна подала прошение о зачислении ее слушательницей естественного факультета Московских высших женских курсов (возможно как раз из-за знакомства с В.Н. Муромцевой и ее подругами – об этом ниже). С октября 1903 г. вместе с братом проживала в Льеже (Бельгия), где училась живописи в Академии художеств. В Москву вернулась в 1904 г. Вероятно, в 1905 г. Евгения Ивановна вступила в партию социалистов-революционеров (ПСР), а с 1909 г. стала членом Боевой организации ПСР. Некоторые штрихи к биографии Е.И. Зильбер-берг этого периода находим у В.Н. Муромцевой.
В 1899 г. Вера Муромцева заканчивает Арсеньевскую гимназию и поступает на «Коллективные курсы». Видимо, поздней осенью – в начале зимы 1899 г. В.Н. Муромцевой, а также ее подругам, было хорошо известно о грядущем закрытии Коллективных курсов, по этой причине интенсивность обучения и интерес к учебе снизились и курсистки больше интересовались современными и актуальными проблемами общества и студенчества. Отметим, что с 8 февраля 1899 г., после того как полицейские жестко разогнали студентов Санкт-Петербургского университета, по стране прокатились студенческие забастовки; обсуждение этого события тоже находим на страницах «ранних» «Бесед с памятью». По предложению М.И. Горожанкина (1879–1946) в январе– феврале 1900 г. возникает тайное общество «цель этого общества – снабжать книгами, журналами и газетами сельских учителей и учительниц» (РАЛ. MS 1067/203). Е.И. Зильберберг и ее брат Л.И. Зильберберг приходят на первую встречу кружка. В.Н. Бунина вспоминала:
Не могу передать то волнение и ту радость, с какими я шла зимним вечером на первое наше заседание, которое происходило в каком-то обществе, где, по знакомству, нам дали комнату, в одном из высоких домов у Никитских ворот. <…>. Здесь я встретила свою одноклассницу Пашу Степанову, затем я привлекла Катю Рудневу, <…>, Щербакову, Юлю Жилевич, <…>. Остальные для меня все были новые лица. Ев<гений> Ив<анович> Сомов, студент математики, брат и сестра Зильберберги, оба очень красивые, особенно она, затем несколько городских учителей и учительниц, из которых один Данилин… (РАЛ. MS 1067/203).
Красоту юной Евгении Зильберберг отмечали и вспоминали многие современники: О. Дымов (наст. им. И.И. Перельман), М. Чернавский, М. Цветаева [Хазан 2008, 77, 82]. Об этом же вспомнит В.Н. Бунина в своем письме от 8 марта 1960 г. к Г.Н. Кузнецовой, когда будет комментировать недавно вышедший исторический роман Р. Гуля «Азеф» (Нью-Йорк: Мост, 1959):
Евгения Ивановна была красавицей, она была из состоятельной семьи, и странно, от нее первой я узнала о суде над Бурцевым <партия эсеров судила В.Л. Бурцева за выдвинутые против Е.Ф. Азефа обвине- ния>, и она рассказывала о нем как свидетельница [И.А. Бунин. Новые материалы III, 521].
На этих же встречах присутствует будущий муж Евгении Ивановны – Е.И. Сомов. Возможно, здесь они впервые познакомились. По записям можно понять, что В.Н. Муромцева состояла в «тайном обществе» с 1900 по 1905 гг. (РАЛ. MS 1067/203) Стоит отметить, что о кружке в главе «Коллективные курсы» Бунина пишет трижды, часто дублируя информацию и дополнительно ее расширяя, приведем некоторые фрагменты:
И этот кружок, как ни странно, очень долго существовал, собрал недурную летучую библиотеку. Лично я в нем состояла лет пять, состав переменился, многие из этой приготовительной школы перешли уже в настоящую школу революцию, не довольствуясь просветительной деятельностью. <…> Заседания большею частью бывали днем по воскресеньям и праздникам, но иногда и по вечерам. Чаще в городских школах, но иногда у Сомова в квартире, рядом с типографией, иногда и <у> Зильберберг<ов> в хорошей буржуазной квартире, их отец служил в Поляковском банке, иногда и в подвальной комнате особняка Сытина в Замоскворье. <…>
<После первого собрания> выходим в каком-то подъеме. Идем провожать друг друга. Не хочется расставаться. Со многими я познакомилась. Красивая барышня – Евгения Ивановна Зильберберг, красивый итальянец ее брат, Лев Иванович, студент, которого я в лицо знала, Сомов, тоже Евгений Иванович, в косоворотке блондин с милым веселым лицом <…>. Со второго заседания, происходившего днем в воскресенье у Зильберберг<ов>, началась выработка устава нашего «общества» и несколько лет сряду его вырабатывали, и прения велись в очень горячих тонах… (РАЛ. MS 1067/203);
После неприятности с Щербаковой <ученица и жена историка М.М. Хвостова (1872–1920); ее письмо к сельской учительнице попало в руки полиции, она отделалась предупреждением>, мы решили сделать заседание на концерте Гофмана, который давался в большом зале Благородного собрания, что очень волновало и радовало. Затем, через какой-то срок опять стали собираться, то у Зильберберга, то в одной из городских школ Москвы.
Весной ездили за город, где было особенно приятно и радостно заниматься серьезными делами.
К нам вступали новые члены, но мы привлекали с большим разбором, и пока почти весь Кружок не переменился, нас никто не трогал, затем, вероятно, когда привлекались с меньшей осторожностью люди, попал кто-нибудь из тех, кто был «осведомителем», и на одном заседании у <В.В.> Шера, уже в 1905 году, нас описали (РАЛ. MS 1067/203).
Отец Зильбербергов, вероятно (ГАРФ. Ф. 63. Оп. 44. Д. 3017) мещанин Иван Петрович Зильберберг (около 1850 – после 1911) – служил в Московском земельном банке банкирского дома Л.С. Полякова (1842–1914). Иосиф Гофман (1876–1957) регулярно выступал в Петербурге и Москве в 1900-е гг., В.Н. Бунина отмечает, что концерт происходил в Большом зале Благородного собрания. Про один из таких концертов 26 января 1903 г. (см.: [Театр и музыка 1903]). О концертах Гофмана в Петербурге 1903–1904 гг. вспоминал О.Э. Мандельштам [Мандельштам 1925, 36–39]. Будущего экономиста Василия Владимировича Шера (1883–1940) В.Н. Бунина знала еще с гимназических лет (РАЛ. MS 1067/203), он вошел в кружок в 1902–1903 гг., в 1905 г. вступил в РСДРП, фракцию меньшевиков.
Впервые об этих встречах «тайного общества» В.Н. Бунина вспомнила и написала из-за Юлии Жилевич. Ей писательница посвятила очерк «Завещание» [Муромцева 1933]. В архиве также сохранились рукописи (РАЛ. MS 1067/ 102–103) и машинописи (РАЛ. MS 1067/ 104–106, 113) статьи, которые явно перекликаются с «ранними» «Беседами с памятью». Так, например, в машинописи читаем:
И я вспомнила мой один разговор с Зильбербергом, с которым я шла как-то после заседания домой.
– Нет, – сказал он мне тихо, – эта работа меня не удовлетворяет, нужно делать совсем другое. А книжки рассылать мало, этим делу не поможешь… и как-то замолчал. Я искоса немного удивленно взглянула на его красивое лицо, оно было в этот момент прекрасным.
– Уж не с ним ли стала «работать» Жилевич? Тем более, что она одно время давала уроки их младшему брату. И я замечала, что на заседаниях и после них Зильберберг с ней всегда о чем-то разговаривает. Но расспрашивать не расспрашивала, мы были очень деликатны в то время (РАЛ. MS 1067/ 106).
В мае 1933 г., после публикации очерка, В.Н. Бунина получила письмо от Евгении Ивановны (на тот момент уже Ширинской-Шихматовой), в котором последняя тепло отозвалась об очерке и предложила написать воспоминания о Л.И. Зильберберге:
Вы вспомнили давно ушедший мир, в котором частица и моей души. Я вспомнила, как брат мой одно время увлекался Софьей Ивановной <так Е.И. называет Ю.И. Жилевич>, как она приходила к нему. Вот и захотелось написать Вам, через которую протянулась ниточка к прошлому. <...> Когда-то Вы мне говорили, что думали написать о моем брате. Может быть, написали? Если нет – напишите, милая, что помните о нем. Ксения (вдова брата) пишет заказанную ей для печати статью о брате, и Ваши воспоминания о его юношеских годах были бы бесконечно ценны (РАЛ. MS 1067/ 6569; цит. по: [Ха-зан 2008, 83–84]).
В.Н. Бунина не публиковала никаких заметок о Льве Зильберберге, хотя иногда вспоминала о нем в мемуарах. Машинопись (РАЛ. MS 1067/ 106) к статье «Завещание» напоминает скорее не расширенную версию статьи, а письмо к кому-то, т.к содержит местоимения, обращенные к слушателю-читателю: «редкий ты слушатель, но неужели тебе не надоело второй вечер сидеть и слушать. Впрочем, взялся за гуж, не говори, что не дюж. На чем это я остановила? Да, мы уже курсистки, и уже в тайном обществе, хотя и не революционном» (РАЛ. MS 1067/ 106). Возможно, этот документ как раз создавался по предложению Е.И. Зильберберг с мыслью о будущей публикации.
Первый муж Е.И. Зильберберг – Евгений Иванович Сомов (1881–1962) – инженер, эсер, революционер, принимал участие в революции 1905–1907 гг., позднее эмигрировал в США. В браке они были с 1905 по 1910 гг. 9 февраля 1907 г. Л.И. Зильберберг и его сообщник В.М. Сулятицкий (1885–1907) были арестованы по обвинению в организации убийства генерал-майора, градоначальника Санкт-Петербурга В.Ф. фон дер Лауница (1855–1907). Л.И. Зиль-берберга казнили 16 июля 1907 г. в Петропавловской крепости. Е.И. Сомова 1 апреля 1907 г. была арестована в Петербурге. Месяц провела в Петропавловской крепости, откуда была переведена в Дом предварительного заключения, позднее дело Е.И. Сомовой прекращено, а она была освобождена, после чего уехала в Париж. (Об этих годах биографии Е.И. Зильберберг (Сомовой) см.: [Хазан 2008, 77–83]).
В.Н. Бунина в упомянутом письме к Г.Н. Кузнецовой (8 марта 1960 г.) вспоминала:
Она <Евгения Ивановна> прекрасно знала Азефа, жила в Финляндии, когда он всех восхищал смелостью, уезжая в Петербург. Она ведь была в боевой организации, возила на себе перексилиновые ленты, обмотавшись ими под платьем, из-за границы в Россию.
Знаю, что Савинков, увидя ее в Париже <в 1907–1908 гг.> на каком-то вечере, сразу влюбился (рассказывала Вера Рафаиловна <Мартынова (Гоц)>). Слышала, что, когда ее брат устроил Савинкову побег из севастопольской тюрьмы <побег состоялся в ночь с 15 на 16 июля 1906 г.>, она в Москве вбежала к кому-то со словами: «Борис спасен».
Слышала, что Азеф плакал на груди матери ее, когда был повешен ее сын, которого он предал. Одного из «семи повешенных», – математика. Это хороший штрих был бы для романа. Лев Иванович Зильбер-берг, прелестный человек, я знала его [И.А. Бунин. Новые материалы III, 522].
С 1908 г. Е.И. Зильберберг состояла в гражданском браке с Борисом Викторовичем Савинковым (1879–1925) – революционером и писателем. В 1912 родился сын Лев Борисович Савинков (1912–1987). В 1917 г. Е.И. Савинкова жила в Ницце, в 1918 переехала в Париж, где и прожила до конца жизни. До революции Муромцева и Зильберберг (Сомова) последний раз виделись в 1906 г. Позднее они встретились уже в Париже 18 апреля 1920 г. как Бунина и Савинкова. Об этой встрече в доме В.Н. Чайковской В.Н. Бунина вспоминала:
В гостиной против двери сидела Евг. Ив. Зильберг. Когда я вошла и направилась к ней, она спросила: «Вы не В<ера> Н<иколаевна> М<уромцева>?»
– Ну да, – ответила я. Она сильно обрадовалась и сказала, что я очень мало изменилась и что она никогда ничего обо мне не слыхала и не ожидала меня встретить. Мне, конечно, было приятно и видеть ее, и услышать, что я мало изменилась. Мы высчитали, оказалось, что мы не видались 14 лет (РАЛ. MS 1067/ 360, 367–370).
В апреле–мае 1920-го Бунины и Савинковы периодически встречаются, «Евг<ения> Ив<ановна> очень звала меня. Сав<инков> два раза повторил адрес, чтобы мы не забыли. Henri Martin 29» (РАЛ. MS 1067/ 360, 367–370);
также Бунины часто обсуждают действия и мнения Бориса Савинкова в кругу друзей и знакомых (дневник В.Н. Буниной за 1920 г. содержит отдельную текстологическую проблему, автор благодарит за разъяснения и помощь С.Н. Морозова). В 1921 г. Б.В. Савинков бросил жену и ребенка, расставание Е.И. Зиль-берберг переживала тяжело. В.Н. Бунина записала:
…она <В.Н. Чайковская> мне рассказывала о Савинковых, о том, что пережила за эту зиму Евгения Ивановна. О жестокости к ней мужа, как она чуть не упала на улице, когда встретилась с ним и хотела с ним о чем-то поговорить. Вера Николаевна <Чайковская> говорила, что он так пренебрежительно оттолкнул ее и прошел мимо (РАЛ. MS 1067/ 372).
На похоронах В.Н. Чайковской (21 июня 1921 г.) Бунина и Савинкова вновь встретились, Вера Николаевна записала в дневнике:
Я не узнала Савинкову, как ее скрутило горе. Она совершенно не занимается своей внешностью, подурнела очень, худа ужасно. Жаль ее ужасно, вот горе. Она, вероятно, Савинкова любит очень большой любовью... (РАЛ. MS 1067/ 371–372).
На протяжении 1921 г. Бунина и Савинкова несколько раз встречаются (В.Н. Бунина постоянно подчеркивает ее тяжелое состояние и нервные срывы), отмечают вместе Новый 1922 год: «Встречали “Новый год” <…>. С нами была Савинкова» (РАЛ. MS 1067/ 374). Встречи продолжаются на протяжении всего 1922 года. В.Н. Бунина часто замечает, что Е.И. Савинкова продолжает тяжело переживать расставание с мужем. 21 ноября Бунина записывает «Была и Савинкова, она совершенно мертвый человек» (РАЛ. MS 1067/ 374). Приятельницы многое обсуждают при личных встречах. Приведем интересную запись от 9 июня:
Обедаю у Савинковой. Она надеется, что и Ян будет. Но его нет и нет. Иду одна.
Обедаем вдвоем. Есть что-то очень приятное быть глаз на глаз с женщиной, сидеть за хорошо сервированным столом и спокойно есть тонкий обед. Ев<гения> Ив<ановна> умеет принять. Если бы у нее было много денег, она могла бы прославиться своим салоном... <…> Ев<гения> Ив<ановна> вместе с <Л.> Розенталем <(1874–1955) – обще ственный деятель, миллионер-филантроп, эмигрант, выходец из Ро ссии> устраивает русских мальчиков во французские семьи. <…>
Какой все-таки молодец Евгения Ивановна. Она не падает духом. Работает. Устраивает других. И почему ее некоторые называют глупой – не понимаю. Я думаю, что все <они> были бы в сто раз глупее на ее трудном месте. Конечно, у нее воля преобладает. В ней мало истинно духовных интересов, а в ком их много. Но она сумела создать себе круг знакомых, она не затерялась, о ставшись одна. И несмотря ни на что, она все еще его любит. И может быть, эта любовь и дает ей столько энергии и силы вести такую жизнь (РАЛ. MS 1067/ 374).
В таком же ключе, но значительно реже имя Савинковой встречается на страницах дневника за 1920-е гг. В.Н. Бунина всегда с восхищением пишет о волевых качествах Е.И. Савинковой и ее предпринимательских и организационных способностях. В 1926 г. Евгения Ивановна вышла замуж в третий и последний раз, ее супругом стал общественный деятель, контрреволюционер, основатель Пореволюционного клуба в Париже (1932) – князь Юрий (Георгий) Алексеевич Ширинский-Шихматов (1890–1942). Евгения Ивановна, в эти годы остро нуждалась в деньгах, заботилась о больной раком матери [Хазан 2008, 107] и о будущем подрастающего сына; она переменила большое количе ство занятий, работала сестрой милосердия, пыталась устроить собственную шляпную мастерскую [Хазан 2008, 87–89].
В 1929 г., В.Н. Бунина переживала личную семейную драму – с 1927 г. в их семью вошла Г.Н. Кузнецова (1900–1976). Именно Евгения Ивановна была редкой отдушиной для Веры Николаевны, когда в феврале 1929 г. Бунины с Кузнецовой из Грасса в очередной раз приехали в Париж (пробыли с 2 февраля по 25 апреля) [Двинятина 2020, 130–132]. В это посещение столицы происходило нечто вроде публичной «нормализации» и признания факта новых обстоятельств в семье Буниных. Так кстати напомнившая о себе накануне поездки Евгения Ивановна, в письме (от 16 января 1929) сообщила, что «в восхищении от “Жизни Арсеньева”» (РАЛ. MS 1067/ 395), видимо, в надежде на встречу с автором; на этот момент в периодической печати появились первые три книги романа. 23 февраля на творческом вечере Ю. Фельзена (1894–1943) Бунины и Ширинская-Шихматова встретились и пригласили ее на обед, который состоялся 27 февраля в парижской квартире Буниных (1, rue Jacques Offenbach, Paris 16e):
Обедали у нас Верочка и Савинкова, которая очень интересно рассказывала о курителях опиума, кокаиноманах и т.д. Она молодец. Вот уж верно, что есть люди, которые никогда не пропадут, выйдут из самого тяжелого положения. Конечно, быть сестрой при подобных людях тоже нелегко, но, по крайней мере, она всегда в хорошей «роскошной обстановке». На днях она едет в Ниццу в train bleu – билет стоит 1 800 фр<анков>! Будет жить Cimier (РАЛ. MS 1067/ 395).
Le Train Bleu – «синий» (из-за цвета вагонов) экспресс класса люкс, с перерывами просуществовал с 1886 до 2003 гг. Предназначался для роскошных поездок от Парижа до Ментона через все крупные курортные города Французской Ривьеры (включая Ниццу), пользовался особенной популярностью у англичан.
На следующий день В.Н. Бунина записывает:
Все вспоминаю Савинкову. До чего самодовлеющий человек. Она почти ни одного вопроса не задала нам, а все время рассказывала о себе, о своих больных. О себе она всегда говорит в настоящем времени, ни вспоминать, <н>и мечтать не любит (РАЛ. MS 1067/ 395).
В записи за этот же день В.Н. Бунина отмечает: «главное поняла, что нужно избегать tête-à-tête’тов с кем бы то ни было. Приятен Париж, неко- торые люди» (РАЛ. MS 1067/ 395); «Кажется, я возненавижу tête-à-tête’ы. Все, любя меня, оскорбляют»» (РАЛ. MS 1067/ 395) (см. также: [Двинятина 2020, 130]). Е.И. Ширинская-Шихматова явно входила в круг тех «приятных» людей, так как не стремилась выразить свое оскорбительное «сочувствие» и мнение В.Н. Буниной о ее семейной ситуации.
После отъезда из Парижа обратно в Грасс, В.Н. Бунина иногда узнает новости о Евгении Ивановне. В записи от 2 августа читаем:
Была В<ера> Р<афаиловна Мартынова (Гоц)> – и масса новостей, отчасти известных и отчасти и новых. <…> Савинкова хотела приехать сюда с тайной надеждой играть в М<онте> К<арло>. Теперь она в Кампене (РАЛ. MS 1067/ 395).
В октябре Бунины и Евгения Ивановна встречаются несколько раз в Ницце. Последняя встреча явно отдаляет приятельниц, В.Н. Бунина испытывает разочарование:
В Ницце вчера встретили Савинкову. Ехала к Мережковск<им>, проявляла дурные чувства к Яну. Я постаралась действовать добром. Немного смирилась, стала ласковее. Мне жаль ее. Она уже мертва. Что-то говорит, а душа пуста. Она – человек, которому нужны зрители, а их тут-то и нет. Восхищается своей дачей: «голая лежу на пляжу»... Я спросила: «Вы будете ночевать у Мережковских?» – «Нет, ночевать у кого бы то ни было меня калачами не заманишь»... Я промолчала. Про Алданова: «Это не писатель, все зализано», – мнение Сосинских, которое она повторяет. Про Шестова: еврейский ум, философия, которая представляется мне спиралью... Вот всегда чужое. Вся надежда на советскую литературу, из нее все выйдет (РАЛ. MS 1067/ 395).
Бронислав Брониславович Сосинский (наст. им. Бронислав Рейнгольд Владимир Сосинский-Семихат, 1900–1987) – прозаик, критик. Критиковал М.А. Алданова (1886–1957), так как полагал, что «Современные записки» из «молодых» авторов печатают только Алданова, в том числе, нападал на И.А. Бунина, по его мнению, «задвигавшего» молодежь [Лавров 1989, 139– 141, 144–145].
В 1930-е гг. общение фактически сводится на нет и имя Евгении Ивановны лишь изредка упоминается в дневниках Буниной. Писательница отмечает полученные от Е.И. Ширинской-Шихматовой письма или редкие сведения, пересказанные знакомыми. В ноябре 1933 г. Евгения Ивановна поздравляет в письме И.А. Бунина с присуждением Нобелевской премии: «Примите мое сердечное поздравление с получением столь заслуженной Вами Нобелевской премии. // Радуюсь за Вас и желаю Вам всех благ» [Хазан 2008, 82–83]. Также Бунина и Ширинская-Шихматова в письмах обсуждают публикацию очерка В.Н. Буниной «Завещание» [Муромцева 1933], после чего приятельницы лишь изредка узнают что-то о друг друге от общих знакомых. В упомянутом уже письме к Г.Н. Кузнецовой (8 марта 1960 г.), Бунина также вспомнила обстоятельства смерти Евгении Ивановны: «Она, бедняжка, скончалась от рака кишок при немцах. Из клиники, где она лежала, ее выкинули, и пока ее муж, кн. Ширинский-Шихматов, искал такси, она лежала на носилках, на тротуаре» [И.А. Бунин. Новые материалы III, 522].