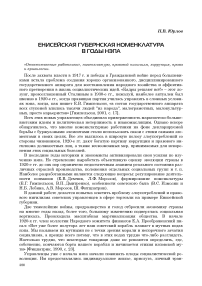Енисейская губернская номенклатура в годы НЭПа
Автор: Юрлов Петр Вениаминович
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2 (20), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается тема формирования советской номенклатуры в Енисейской губернии в 1920-е годы. Основное внимание автор сосредоточивает на проблеме злоупотреблений со стороны советских «ответственных работников» и на социально-экономических причинах этого явления.
"ответственные работники", номенклатура, правовой нигилизм, коррупция, права и привилегии
Короткий адрес: https://sciup.org/144153490
IDR: 144153490
Текст научной статьи Енисейская губернская номенклатура в годы НЭПа
После захвата власти в 1917 г. и победы в Гражданской войне перед большевиками встала проблема создания хорошо организованного, дисциплинированного государственного аппарата для восстановления народного хозяйства и эффективного претворения в жизнь социалистических идей. «Кадры решают всё!» – этот лозунг, провозглашенный Сталиным в 1930-е гг., пожалуй, наиболее актуален был именно в 1920-е гг., когда правящая партия училась управлять в сложных условиях нэпа, когда, как пишет Е.В. Гимпельсон, «в состав государственного аппарата всех ступеней влились тысячи людей ''из народа'', малограмотных, малокультурных, просто карьеристов» [Гимпельсон, 2001, с. 17].
Всех этих новых управленцев объединяла приверженность марксистско-большевистским идеям и политическая нетерпимость к инакомыслящим. Однако вскоре обнаружилось, что многие номенклатурные работники на фоне декларируемой борьбы с буржуазными элементами стали использовать связи с этими самыми элементами в своих целях. Все это вылилось в широкую полосу злоупотреблений со стороны чиновников. 1920-е гг. дают богатую картину коррупции и правового нигилизма должностных лиц, а также всевозможных мер, принимаемых для искоренения этих социальных болезней.
В последние годы историки и экономисты активизировали свои усилия по изучению нэпа. Но стремление выработать объективную оценку эволюции страны в 1920-е гг. до сих пор ограничено недостаточным знанием реального состояния различных отраслей производства, положения отдельных социальных групп и т. п. Наиболее разработанными являются следующие вопросы: регулирование деятельности нэпманов (Е.В. Демчик, Л.Ф. Морозов), формирование номенклатуры (Е.Г. Гимпельсон, В.П. Дмитренко), особенности советского быта (В.С. Измозик и Н.Б. Лебина, А.В. Морозов, Ш. Фитцпатрик).
В данной работе делается попытка осветить проблему злоупотреблений и правового нигилизма советских управленцев в сфере торговли на примере Енисейской губернии.
Две тяжелейшие войны, продразверстка и голод отбросили экономику страны на многие годы назад, более того, большому изменению подверглась социальная вертикаль. Происходила масштабная маргинализация общества. В начале 1920-х гг. член коллегии Народного комитета финансов Е.А. Преображенский писал: «Вот уже более полутора лет наш советский корабль плавает в мутных водах нэпа. Мы называем их мутными не с точки зрения морали и непорочного зачатия социализма, а прежде всего потому, что в этих водах трудно что-либо разглядеть. Настолько трудно, что некоторые товарищи даже не решаются определить, где, собственно, кончаются борта нашего корабля и начинается стихия нэповской мути» [Фицпатрик, 1990, с. 23].
Управленцы уже с начала нэпа начали пожинать плоды социалистической революции. Им предоставлялись индивидуальное жилье, прислуга, личный тран- 380
спорт и, самое главное, неограниченная власть. Понимание членства в партии как основания для пользования привилегиями распространилось настолько широко, что сатирические журналы тех лет открыто публиковали куплеты на эту тему, подобные такому: «Партбилетик, партбилетик, // Оставайся с нами! // Ты добудешь нам конфет, // Чая с сухарями. // Словно раки на мели, // Без тебя мы будем. // Без билета мы нули, //А с билетом люди» [Бровкин, 2004, с. 86].
Упрощенное отношение чиновников к своим обязанностям и стремление вульгарно подчеркнуть свой статус объясняются отчасти их низким культурным уровнем. Естественно, что бывшие чернорабочие и крестьяне, попав в ряды номенклатуры, стали всячески показывать свою принадлежность к высшему эшелону власти, особо не утруждая себя выполнением служебных обязанностей. Типичный управленец, как правило, стремился «командовать» и руководить «вообще», не специализируясь в конкретной области управленческой деятельности.
Сельскохозяйственный уклад экономики Енисейской губернии имел большое влияние на процесс формирования местной номенклатуры. Одной из особенностей региона являлась малая численность городского населения. По данным переписи 1920 г., в губернии насчитывалось 1,1 млн. жителей, из которых только 130 тыс. проживало в городах. Поэтому в численном измерении сельских управленцев было гораздо больше, чем городских. Это определило и качественный состав руководящих кадров. Большинство из них вышли из деревни; это были преимущественно молодые люди мужского пола 20–35 лет, имеющие низкий уровень образования.
«Ответственные работники», проживавшие в деревне, представляли два типа чиновников. Первые выделяли «себя из крестьянской среды, занимали несколько должностей, командовали без желания толково разъяснять; с одной стороны, крестьянин их не любил, а с другой – побаивался. Вторые не выделяли себя из крестьянской среды, а сливались с ней: пьянствовали, гнали потихоньку самогон, совершенно дискредитируя себя» [Гимпельсон, 2001, с. 119].
Что касается номенклатурных работников, проживавших в городах губернии, то они, как правило, имели дореволюционный опыт административной работы. После революции они работали в государственных учреждениях, занимая одновременно несколько должностей, и нередко входили в правления государственных торговых фирм («госторгов»). Это давало доступ к дефицитным товарам широкого потребления, что в условиях несовершенства отчетного дела и бухгалтерии предоставляло возможность для личного обогащения. Уже в самом начале нэпа появилось понятие «краскупы» («красные купцы») применительно к «ответственным работникам», работающим в государственных и кооперативных торговых учреждениях.
У органов юстиции накопилось множество вопросов к государственным учреждениям, занимающимся торговлей. С 1920 по 1922 гг. проходило секретное расследование дела по обвинению членов правления «Губернского союза кооперативов», крупнейшего торгового учреждения в губернии, по которому к ответственности было привлечено 33 человека. Выяснилось, что верхушка правления Союза в течение длительного времени нелегально приобретала, продавала товары, сдавала в аренду площади и просто воровала казенное имущество. Среди управленцев оказался и сочувствующий Колчаку, который в 1919 г. отправил вслед колчаковцам на Дальний Восток пушнины на 32 млн. руб. (ГАКК. Ф. Р-448. Оп. 1. Д. 17. Л. 6). «ГубСоюз» нередко фигурировал и в делах о частых ночных грабежах. В действительности же руководители этой организации выводили через частника на рынок партии товара, а потом инициировали взлом и грабеж склада. По свидетельствам Рабоче-Крестьянской Инспекции (РКИ), отчетные книги в «ГубСоюзе» велись бе- зобразно: часто были вычеркивания и исправления цифр, отсутствовали некоторые страницы. В северных районах отчетные книги иногда вообще не велись ввиду малой грамотности бухгалтера. Пропажа товара со склада могла объясняться утруской, усушкой, плохим качеством.
Ревтрибунал в конце 1921 г. послал всем заведующим заготовительным конторам циркуляр следующего содержания: «Как только начались выдаваться в качестве служебной одежды сапоги, полушубки, шапки и пр., в тот же день на барахолке появились тождественные вещи в продаже» (ГАКК. Ф. Р-448. Оп. 1. Д. 43. Л. 28).
Чиновники имели очень тесные контакты с частным сектором. Здесь не наблюдалось напряженной классовой борьбы, скорее это было взаимовыгодное сотрудничество. Часто эта связь принимала криминальный оттенок. Между заготовителем и государственным предприятием заключался договор-обязательство, в котором называлась сумма выдаваемого аванса, содержались конкретные задания по заготовке, оговаривался размер вознаграждения (как правило, 6 % предпринимательской прибыли и 2,5 % компенсации за организационные расходы), а также давались имущественные гарантии заготовителями в обеспечение взятых ими на себя обязательств. Зачастую стоимость залогового имущества была существенно ниже стоимости выдаваемых авансов, что создавало базу для маневров частных контрагентов и позволяло им нарушать свои обязательства. Так, заготовители Жинкин и Прозоровский в Енисейской губернии, получив от Канского отделения «Сибторга» товар на большую сумму под заготовку зимней ангарской белки убоя 1922 и 1923 гг., оставили в залог автоматическую кассу «Националь» и подержанную женскую шубу [Фицпатрик, 1990, с. 30]. Были случаи, когда выдался аванс 100 % деньгами или 100 % товарами. Объезжая отдаленные районы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, частные заготовители сбывали полученные в кредит товары по завышенным ценам, а большую и лучшую часть заготовленного сырья продавали на рынке. Пользуясь неграмотностью населения, заготовители допускали обмер, обвес, обсчет и даже пытались взимать с охотников дореволюционные долги. Иногда полученные от государства авансы и кредиты частные предприниматели обращали в золото и драгоценности и, спрятав в заветный сундук, скрывались.
Чтобы получать такие авансы, частники не чурались и взяток. Например, в Канске был задержан 72-летний Евсей Моисеевич Галинпольский по обвинению в спекуляции и даче взятке районному продовольственному комитету. На допросе свидетели по делу говорили, что однажды, «когда забрали Галинпольского, а затем вдруг отпустили, он налетел на квартиру с топором со словами: ''Вы, сволочи, засыпали меня, ну что вы сделаете со мной, у меня там знакомый комиссар и комендант''. Сам районный продовольственный комиссар Овчаров свидетельствовал: ''За эти вещи он мне предложил взятку 10 тыс. руб. На его слова я ответил, что я не могу сделать. Он сказал – что ты боишься,… комиссары и то не боятся, а ты бо-исся, бери не бойся, мне не первой раз давать, всё проходит''» (ГАКК. Ф.Р-448. Оп. 3. Д. 26. Л. 7, 9).
30 декабря 1922 г. была организована Енисейская губернская комиссия по борьбе со взяточничеством при ГПУ. За 1923 г. комиссия уволила 30 человек. Был привлечен к уголовной ответственности гр. Гракович за получение взятки в 19 млн. руб. при исполнении должности зав. складом топлива. В 1923 г. под грифом «секретно» губернский отдел ГПУ получил следующую телеграмму: «За последнее время в Сибири отмечается широкое развитие тайного винокурения и пьянства, разлагающего не только советский, но и партийный аппарат и принимающее характер народного бедствия» (ГАКК. Ф. Р-49. Оп. 2. Д. 96. Л. 247].
Кроме того, архивные материалы выездных сессий Революционного комитета в Енисейской губернии свидетельствуют о низкой трудовой дисциплине «ответственных работников». Например, в 1923 г. было возбуждено дело по обвинению Алексея Григорьевича Боровкова в трудовом дезертирстве. В судебных материалах дается портрет обвиняемого и описание должностного преступления: «Алексей Григорьевич, 25 лет, заведующий Енисейским уездным экономическим отделом, не появлялся на работе в течение 7 дней, а последние полтора месяца выходил на службу только на 1–2 часа и ничего не делал: не подготовил кампанию по засеву овса и сенокосу» (ГАКК. Ф. Р-448. Оп. 3. Д. 440. Л. 14). По постановлению суда он был уволен. Но вскоре после этого он уже значился в районном комитете горнорабочих треста «Ензолото».
Номенклатурные работники проявляли большую изобретательность и в способах получения привилегий на ограниченные ресурсы. Например, отдых в санатории стал очень популярен среди чиновников. Сотрудники Енисейской кассы соцстрахования в июне 1925 г. жаловались Енисейскому губернскому комитету: «На лето 1925 г. легочных больных, нуждающихся в курортно-санаторном лечении только по Красноярску, имеется 100 человек. Кроме того, губернский комитет РКП (б) требует часть мест дать проходящим через Ремонтную Комиссию ответственным работникам. Просьба не пропускать через Ремонтную комиссию ответственных работников» (ГАКК. Ф. Р-163. Оп. 2. Д. 26. Л. 1,8).
Данные привилегии, которыми могли пользоваться номенклатурные работники, несомненно, делали службу в государственных органах крайне привлекательной. В тяжелых условиях послевоенного времени государственная служба рассматривалась как источник постоянной работы и стабильной заработной платы.
Период нэпа представлял собой переходный, восстановительный этап, когда существовал острый дефицит потребительских товаров и шло формирование системы контроля и законодательства. Это не могло не отразиться на процессе формирования номенклатуры, когда в государственном аппарате оказалось много случайных людей и авантюристов. Особенно это было характерным для государственных и кооперативных учреждений, занимающихся снабжением населения товарами первой необходимости. Большое влияние на количественный и качественный состав местной номенклатуры оказал и сельскохозяйственный характер развития Енисейской губернии. Большинство «ответственных работников» вышли из деревни и ввиду низкого культурного и образовательного уровня имели упрощенное видение своих должностных обязанностей. Как следствие, все это вылилось в широкую волну пьянства и служебных злоупотреблений.
Список сокращений
ГАКК – Государственный архив Красноярского Края.