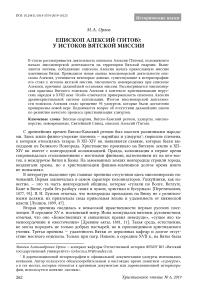Епископ Алексий (Титов): у истоков вятской миссии
Автор: Орлов Максим Александрович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 6 (89), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается деятельность епископа Алексия (Титова), положившего начало миссионерской деятельности на территории Вятской епархии. Выявляются мотивы, побудившие епископа Алексия начать православную миссию язычникам Вятки. Приводится новая оценка миссионерской деятельности епископа Алексия, уточняются некоторые данные, существующие в историографии: кто стоял у истоков вятской миссии, численность новокрещеных при епископе Алексии, причины дальнейшей остановки миссии. Рассматривается миссионерская практика Вятского епископа Алексия в контексте христианизации нерусских народов в XVIII веке. Особо отмечается приверженность епископа Алексия древнехристианской системе катехизации. Итогом миссионерской деятельности епископа Алексия стало крещение 95 удмуртов, которые были достаточно привержены новой вере. Поднимается вопрос об отсутствии дальнейших шагов по развитию начатого процесса христианизации удмуртов.
Вятская епархия, вятско-камский регион, удмурты, миссионерство, новокрещеные, святейший синод, епископ алексий (титов)
Короткий адрес: https://sciup.org/140246778
IDR: 140246778
Текст научной статьи Епископ Алексий (Титов): у истоков вятской миссии
С древнейших времен Вятско-Камский регион был населен различными народами. Здесь жили финно-угорские племена — марийцы и удмурты1; тюркские племена, к которым относились татары. В XII–XIV вв. появляются славяне, которые были выходцами из Великого Новгорода. Христианство проникало на Вятскую землю в XII– XIV вв. вместе с новгородской колонизацией. Правда, колонизация в первое время сопровождалась столкновениями с местными финнами, вытеснением их на юго-восток, в междуречье Вятки и Камы. На завоеванных землях новгородцы строили города, воздвигали храмы, но о христианизации финнов-язычников долгое время никто не помышлял.
В литературе выделяют три главные причины отсутствия здесь миссионерских начинаний. Первая заключалась в самом характере колонизаторов. Ушкуйники, как известно, — это та часть новгородской общины, которые «гуляли по Волге, Ветлуге, Каме и Вятке, грабя без разбору своих и чужих, христиан и бусурман» [Перетяткович, 1877, 95]. П. Н. Луппов отмечал, что новгородцы приходили на Вятку не с религиозными целями, их привлекала сюда привольная жизнь и удаленность от княжеской власти [Луппов, 1899, 47].
Вторая причина сводилась к невысокой нравственности первых русских поселенцев. В середине XV в. московский митр. Иона возмущался вятским духовенством, отмечая, что оно «Божественных и священных правил неведуще», «сущее яко ка-меносердечнии и ожесточении» [Древние акты, 1881, 11]. Такая среда, естественно, не могла породить не только добрых пастырей, но и проповедников христианского учения. Третья причина — удаленность Вятки от церковных кафедр и долгое отсутствие местного епископа. Только при патр. Никоне, в середине XVII в., на Вятке была
учреждена архиерейская кафедра. Первые три епископа — Александр, Иона и Дионисий — были заняты делами внутреннего устройства епархии. Только четвертый архипастырь, еп. Алексий (Титов), начал христианизацию местных язычников.
Епископ Алексий был выходцем из московской помещичьей семьи. Предполагается, что он родился ок. 1667 г. [Буевский, 1901, 4]. Не лишним будет напомнить, что середина XVII в. была временем искуса для любителей древнерусского благочестия. Сторонники отеческих преданий с трудом держали демаркационную линию строгих нравов и вступали в борьбу с европейскими новшествами. Русский богослов прот. Георгий Флоровский так писал о происходившем тогда психологическом перевороте: «не то важно, что в XVII веке в московский оборот входят разные западные мелочи и подробности. Но изменяется сам стиль или „обряд жизни“, изменяются психологические навыки и потребности, вводится новый „политес“» [Флоровский, 2008, 103].
От начала вступления на монашеский путь и до своей кончины еп. Алексий был ревностным поборником благочестивых преданий, с крайней осторожностью и даже подозрительностью относился к различным «новшествам» того времени. Когда он был сослан на Вятку, то всеми силами противился организации духовных школ, которые вызывали у него подозрение в латинизме2. По этому поводу в памяти вятчан сохранились резкие высказывания епископа: «веру православную неизменно, непреложно до кончины соблюдаю; всякие новшества, люторские, кальвинские и иных, оплеваю, гнушаюся и отвращаюся» [Буевский, 1901, 41]. До сих пор в исторической науке не был поднят вопрос о том, где следует искать истоки этих мыслей. Надо заметить, что подобная мысль была популярна в московских кругах второй половины XVII в. В частности, патр. Питирим по поводу появлявшихся «новинок» говорил так: «не точию тыя 12 составы веры святыя кафолическая, иже Святым символом содержими суть, но и вся узаконения, от святых апостол и святых отец нам поданная, Седмию святыми Соборы вселенскими и поместными ухваленная, ктому и вся предания, от церкви Матере нашея верно хранимая, лобзаю, держу и до последняго моего издыхания соблюдаю; противные же церкви суемудрству-ющия, яко святии отцы прокляша, и азъ проклинаю (курсив наш. — М. О. )» [ПСРЛ, 1841, 194]. Как видим, источник мыслей был единым. Видимо, такие мысли были в ходу и создавали определенное умонастроение. Мы придерживаемся того взгляда, что именно такое миросозерцание преосвящ. Алексия нашло свое выражение и в миссионерской деятельности, которую он начал, возглавив Вятскую кафедру. Во многих его начинаниях, связанных с крещением язычников и их катехизацией, отражается святоотеческая мысль. Во всяком случае, социальные гарантии для новокрещеных, бывшие плодом западноевропейской миссионерской практики, у еп. Алексия стоят не на первом плане.
Возглавляя Крутицкую епархию, преосвящ. Алексий в 1719 г. был отправлен на Вятку. В литературе нет единого мнения относительно причин столь явного понижения в статусе. В статье А. И. Алесеева, помещенной в «Православной энциклопедии», указывается, что Крутицкий архипастырь пользовался расположением Петра I, а на Вятку был отправлен в связи с делом об освидетельствовании мощей, открытых в Иосифовом Волоколамском монастыре [Алексеев, 2000, 673–675]. Есть другая версия: преосвящ. Алексий не был сторонником петровских преобразований, вполне сочувствовал опальному сыну Петра I царевичу Алексею, видел в нем русскую надежду. Ввиду этого преосвящ. Алексий не пользовался расположением царя. Нерасположение еще более усилилось после разбора по делу царевича Алексея, на стороне которого выступили некоторые архиереи. Несмотря на то, что вина Крутицкого архиерея не была доказана, Пётр I стал еще более подозрительно к нему относиться, чем воспользовался архим. Феодосий (Яновский), который «низвел» преосвящ. Алексия из Крутицы на Вятку. [Луппов, 1899, 103–104; Буевский, 1901, 44]3.
На Вятке «самая среда, в которой надобно было вращаться новому владыке… пришлась по душе благочестивому архиерею» [Буевский, 1901, 54]. Здесь он не нашел ни протестантских новшеств, ни изнурительной борьбы двух властей — гражданской и церковной, ни той иноязычной культурной обстановки, которая завоевывала свое место в столице. Вышло так, что именно этот ревнитель старины открыл новую страницу в истории Вятской епархии. Еп. Алексий впервые обратил свой взор на нехристианские народности Вятки, в первую очередь на удмуртов. По этому вопросу стоит прокомментировать упомянутую статью А. И. Алексеева. Автор пишет, что еп. Алексий получил разрешение на возобновление деятельности среди вотяков (удмуртов) [Алексеев, 2000, 673–675]. По всей видимости, А. И. Алексеев пользовался опубликованным источником, помещенным в Приложении к «Описанию документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Синода». В кратком комментарии к этому источнику указывается, что «до преосвященного Алексея его предшественниками было обращено в православие только 4 человека» [Описание, 1868, 144]. Однако доподлинно известно, что до еп. Алексия ни один Вятский архиерей не предпринимал усилий к крещению язычников Вятской епархии. В опубликованных и архивных документах нет ни единого упоминания о миссионерской деятельности епп. Александра, Ионы или Дионисия. Кроме того, сам еп. Алексий нигде не упоминает, что его предшественники получали указы о приведении язычников в христианство. А что такое упоминание было уместно, ясно показывает возобновление вятской миссии еп. Вениамином в 1739 г. Желая приводить язычников к евангельскому свету, он пишет, что до него имелись указы, в частности указ от 1721 г., данный еп. Алексию [РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 157. Л. 45 об.]. Итак, еп. Алексий не возобновлял, а учреждал Вятскую миссию.
Что касается упоминания о четырех удмуртах, крещеных до еп. Алексия, то и здесь стоит оставить небольшой комментарий. По всей видимости, составитель комментария к делу, помещенному в «Описании» под № 157 [Описание, 1868, 141], пользовался лишь одним источником, который в настоящее время находится в фондах архива Святейшего Синода в Российском Государственном историческом архиве [РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 157. Л. 1–28]. В докладе еп. Алексия, который Св. Синод получил в феврале 1723 г., говорится о том, что к этому времени число новокрещеных удмуртов было 57 человек [РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 157. Л. 25]. Ни о каких четырех удмуртах, крещеных до него, нет ни единого упоминания. Точнее, такое упоминание есть, но оно помещено уже в докладе епископа Вятского Вениамина (Сахновского), который в 1739 г. доносил Св. Синоду, что его предшественниками крещено всего четыре человека [РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 157. Л. 1–28]. Мы не далеко отойдем от истины, если скажем, что автор «Описания», неизвестно по какой причине, поместил данные о четырех удмуртах из доклада еп. Вениамина в дело еп. Алексия. Необходимость такого замечания заключается в том, что оно еще раз показывает, как преждевременно делать выводы, основываясь лишь на одних опубликованных документах, не поверяя их архивными.
Обратимся еще к одному вопросу, требующему своего комментария. В исследованиях последнего времени стала указываться цифра новокрещеных в числе 57 человек как результат миссионерской деятельности Вятского епископа [Алексеев, 2000, 673–675; Греджева, 2011, 133–137; Дементьев, 2007, 47–52]. Эти данные взяты, как мы уже сказали, из доклада еп. Алексия Св. Синоду, датируемого 1723 г. По всей видимости, исследователи ограничились одним комментарием к документу, помещенному в «Описании» под № 157 [Описание, 1868, 141]. Заметим, что помимо архива Св. Синода есть еще архив Вятской духовной консистории, находящийся ныне в Центральном Государственном архиве Кировской области. В силу объективных обстоятельств указанные авторы не могли этим архивом воспользоваться. В настоящее время сохранились дела фонда Вятской духовной консистории4 о крещении удмуртов, относящиеся к 1724–1726 гг., показывающие, что миссия продолжалась после предоставленного в 1723 г. доклада еп. Алексия Св. Синоду. В одной из переписок Вятского духовного приказа с Вятской провинциальной канцелярией, состоявшейся в 1726 г. приводится ведомость, в которой указано уже 70 новокрещеных [ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 81. Д. 13. Л. 4–7 об.]. Однако и этим цифра не ограничивается. В своей книге «Христианство у вотяков со времени первых исторических известий до XIX века» П. Н. Луппов приводит реестр крещеных удмуртов, приведенных в православную веру при еп. Алексии. В списке значится 95 новокрещеных удмуртов [Луппов, 1899, 260–263]. К сожалению, на данный момент в фондах Вятской духовной консистории этот документ отсутствует, но что он существовал, сомневаться не приходится. Известно, что П. Н. Луппов был не только профессиональным историком, но и специалистом архивного дела. Во всяком случае, данные о 57 новокрещеных, которые указываются как результат деятельности еп. Алексия, явно не соответствуют исторической действительности и требуют коррекции.
Обратимся к самой миссионерской деятельности еп. Алексия. Немаловажной будет постановка следующего вопроса: считать ли миссионерскую деятельность этого архиерея продолжением общероссийской тенденции зарождавшегося интереса к нехристианским народам России, появившейся при Петре I, или же, как писал немецкий историк Э. Бергейм, история направлялась индивидуальным усилием [Бер-гейм, 1908, 17]?
Не вдаваясь в подробные рассуждения, можно сказать, что в истории христианского просвещения вятских язычников при еп. Алексии были элементы того и другого направления, но с преобладанием первого из них. То, что вятский епископ заимствовал мысль о начале миссии со стороны и что она не является плодом его собственных изысканий, подтверждается рапортом, который он послал в Св. Синод в марте 1721 г. Здесь он пишет, что ему стало известно о присылке царского указа в Казань к преосвящ. Тихону. Казанскому архипастырю предписывалось приводить в православную веру магометан и язычников. Еп. Алексий просил о присылке подобного указа на Вятку [РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 157. Л. 1]. Вместе с тем не стоит умалять и произволение архипастыря. Без воли и санкции архиерея ни одно церковное мероприятие в епархии не начиналось.
Уместно теперь поставить вопрос о том, чем направлялся интерес вятского епископа. Были ли здесь низменные, земные расчеты, или же им руководила евангельская заповедь об апостольском преемстве? Историк П. Н. Луппов искал ответ на этот вопрос в плоскости практических рассуждений: крутицким изгнанником двигало желание вернуться в столицу, откуда он был сослан по делу царевича Алексея Петровича. Желая сгладить нерасположение Петра и тем самым выбраться из далекой Вятки, еп. Алексий имел необходимость заявить себя делом, угодным царю [Луппов, 1899, 104]. Такова догадка П. Н. Луппова. Впрочем, сам историк учитывал ее гипотетический характер, однако альтернативной версии не выдвинул. Стоит обратить внимание на то, что эта догадка не подкрепляется никаким историческим документом.
Не предрешая окончательно разрешения данного вопроса, мы разделяем вторую точку зрения. В одном из рапортов Св. Синоду Вятский архиерей пишет, что он желает «всех языков ко спасенному пути привести и во Второе Его Христово Пришествие чисти их представити» [РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 157. Л. 10 об.]. В цитированных словах легко заметить историческую перспективу, которую начертил себе вятский архиерей, а главное, конечную цель ее осуществления: «всех языков ко спасенному пути привести». Конечно, этот взгляд вполне мог сочетаться с надеждой, что царь заметит такой подвиг изгнанника и вернет его в столицу. И все же не стоит забывать, что по своему характеру еп. Алексий был достаточно независим в суждениях, миросозерцание для него было важнее политического компромисса.
Стоит заметить, что еп. Алексий предложил такое направление христианизации, которое не стало впоследствии господствующим для русской миссии XVIII в. Решать задачу распространения Христова учения можно двумя путями: массовым крещением с быстрым оглашением или же степенным, но всесторонним обучением христианской жизни. Конечно, при втором варианте перспектива распространения веры растягивается на неопределенное время, однако «материал» получается более надежным, что и доказала история первых новокрещеных, появившихся на Вятке при еп. Алексии. Этот вариант катехизации требовал напряженной работы и терпения, искусных проповедников, которые могли бы примером своей жизни увлекать новокрещеных на высоты христианской веры, как это делал, например современник еп. Алексия Иркутский епископ Иннокентий (Кульчицкий). Однако такая ноша оказалась не под силу правящим кругам, да и вряд ли большая часть элиты в то время вообще стояла на высоте такого понимания христианизации и, конечно, не могла принять на себя довольно непростую миссию. Легче было запустить механизм государственной поддержки и административным авторитетом приобрести массы новокрещеных. В середине XVIII в. власти избрали именно этот вариант. Результат оказался предсказуемым: к концу этого столетия большая часть новокрещеных Поволжья вообще не имела должного представления о христианстве, в которое с охотою вступало только лишь потому, что за это предлагали освободить от невыносимой рекрутской повинности и дать отсрочку от уплаты налогов.
По вопросу о миссионерском начинании еп. Алексия есть смысл обратиться к историографии. В середине XIX в. свящ. Игнатий (Фармаковский) так резюмировал успехи еп. Алексия относительно крещеных при нем 95 удмуртов: «число, конечно, не великое для четырнадцатилетняго управления епархией» [Фармаковский, 1863, 59]. Автор обратил внимание на отсутствие актов епархиального начальства, которые заключали бы в себе общие меры «относительно проповедования вотякам веры Христовой в местах их жительства». Деятельность епископа носила непостоянный характер, даже «случайный и временный». Распоряжение еп. Алексия относительно того, чтобы удмурты самостоятельно содержали себя в монастыре, куда они приходили для обучения основам христианской веры, оценены как непрогрессивные [Фармаков-ский 1863, 63]. Первый специалист-исследователь этой темы П. Н. Луппов приводит аналогичные доводы, но замечает, что у еп. Алексия был план «обратить всех вотяков в христианство», о котором он писал в Св. Синод [Луппов, 1899, 114]. Остальные авторы в той или иной форме повторяли выводы о минимальном количестве удмуртов, крещеных при еп. Алексии, и об отсутствии у него какой-либо системы христианизации язычников [Шерстников, 1890, 91; Кустова, 2014, 49].
При рассмотрении вопроса о миссионерских изысканиях еп. Алексия стоит остановиться на синодальной программе, которая была ему предложена. Члены высшего духовного учреждения5 составили проект, которым должен был руководствоваться еп. Алексий в своей миссионерской деятельности. Сразу обращает на себя внимание тот возвышенный тон, которым проникнуты пункты проекта. Красной нитью проводится идея, что Христово учение должно возвещаться не ради «воздаяния временного или хвалы». При этом священники должны были наблюдать, чтобы вера принималась «не под видом какого своего прибытка… или не от тяжких податей на них наложенных» [РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 157. Л. 4]. Такой взгляд на христианизацию язычников держался до учреждения Новокрещенской канторы в 1740 г. И вот характерный пример, со всей очевидностью показывающий резкую перемену, бывшую следствием смены миссионерского курса. Еще в 1739 г. в документах Вятской духовной консистории можно было встретить напоминание как духовенству, так и принимающим крещение о том, что христианская вера принимается не ради прибытка или сложения с себя податей [ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 2. Д. 3. Л. 14]. При еп. Алексии новокрещеные свидетельствовали, что православную веру принимают не от бед и ни от долгов, а «своею правдою и волею» с обязательством платить законные подати [ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 14. Л. 1 об.]. Когда была учреждена Новокрещенская кантора и началось поспешное массовое крещение, тогда такие бескорыстные фабулы из документов Вятской духовной консистории быстро исчезают. С того момента чаще можно встретить требования новокрещеных о выдаче им подарков и сложении налоговой обязанности и даже насилие над духовенством в случае отказа от исполнения требований.
В ответном письме вятский архипастырь высказывает мысли, весьма схожие по букве и духу с мнением членов Св. Синода. Еще раз обратим внимание на то, что вятский архиерей желал увидеть новокрещеных в день Христов «чисти» [РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 157. Л. 4], т. е. свободными от языческих суеверий. Православная традиция под чистотой понимает не только верное догматическое исповедание, исключающее всякий синкретизм, но и определенный нравственный облик, начертанный в Священном Писании. Вот что замечательно. Во всех имеющихся источниках нет ни одного примера, который бы выставлял новокрещеных того времени в невыгодном свете. Первые крестившиеся удмурты отличались особой приверженностью православной вере. Сам епископ утверждает, что все новокрещеные пребывают в вере и «никто от них не развратишася» [РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 157. Л. 10]. Игумен Верхочепецкого Воздвиженского монастыря Евфимий доносил еп. Алексию, что крещеные удмурты приходили к православию без всяких меркантильных расчетов: «не от платежа податей и не от каких плутовских и разбойничьих дел» [ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 81. Д. 13. Л. 16]. Стоит, впрочем, заметить, что первые новокрещеные жили близ русских селений или же часто в них бывали, о чем и сами прямодушно признавались: «понеже мы живем при русских людех и при церкви Божией в самой близости и при той церкви из домов своих во время христианского моления бываем повсечастно» [ЦГАКО. Ф. 236. Оп. 74. Д. 14. Л. 1 об.]. Близость русских селений не могла не оказывать благотворного влияния на успех дела, затеянного еп. Алексием. Известно, что те новокрещеные, которые подвергались русификации, были более привержены церковным традициям и легче воспринимали истины христианской веры.
Обратимся к вопросу, который касается распоряжения еп. Алексия о том, чтобы удмурты, приходящие «на четыредесять дней в подначальство в монастырь ко искусным монахом», сами себя обеспечивали всем необходимым содержанием [ЦГАКО. Оп. 74. Д. 21. Л. 4–4 об.]. Это распоряжение и приводило исследователей к мысли, что сия мера «не могла привлекать их к крещению» [Фармаковский, 1863, 63; Шер-стников, 1890, 91], т. к. вынуждала за свой счет ехать в далекий Хлынов6 и своим хлебом питаться в монастыре. Историография до сих пор не знает хотя бы слабых возражений по данному вопросу. Действительно, многих нехристиан такая «политика» могла остановить в принятии решения креститься.
Возможно, именно здесь находится ключ к пониманию мыслей еп. Алексия. Исторический смысл этой меры приходится искать в другой, духовной плоскости. Расчет архиерея, очевидно, преследовал сугубо духовные цели: чтобы в ряды православных вступали только те, кто действительно был тверд в своих убеждениях и прошел этот своеобразный искус. К сожалению, исследователи обращали внимание только на диспозицию распоряжения, а вот гипотеза правовой нормы осталась без внимания. Цитируем: «а в бытность их до (курсив наш. — М. О. ) крещения в той обители пита-тися им приходящим ко крещению своим хлебом». Отсюда можно сделать важный вывод о том, что уже после принятия крещения они могли быть обеспечены за счет монастыря.
Не стоит упускать из виду и продолжительность пребывания в обители. Сорок дней — это то время, которое в древнехристианской практике рассматривалось оптимальным сроком для оглашения и назидания в христианских правилах тех, кто приступал к крещению. «Сорок дней имеешь для покаяния. Много способного времени — и раздеться и измыться, и одеться и взойти» (свт. Кирилл Иерусалимский) [Кирилл Иерусалимский, 1991, 4]. Мало сомнений в том, что еп. Алексий свои распоряжения основывал на святоотеческом учении. Соответственно, в этих распоряжении еп. Алексия гораздо легче увидеть меры чисто духовные, нежели утилитарно-прагматичные. В более поздней практике российского миссионерства, особенно в середине XVIII в., сроки оглашения будут сокращаться до нескольких дней, а вместо испытания воли и доказательства намерений будут введены государственные награды за принятие крещения.
Еще один момент указывает на осторожность действий епископа в деле христианизации. Это вопрос о предоставлении налоговой льготы новокрещеным. Архипастырь просил предоставить льготу, но уже после принятия крещения, не обещая ее до того. Таким образом, во всех действиях еп. Алексия, касавшихся христианизации удмуртов-язычников, можно видеть влияние древнехристианской мысли, основанной на постепенном врастании новокрещеных в церковную жизнь.
Епископ Алексий покинул вятскую кафедру в 1731 г. и был переведен в Рязань, где и служил до своей кончины, последовавшей в 1755 г. После его отъезда наступило своеобразное миссионерское затишье, продолжавшееся до приезда еп. Вениамина (Сахновского) в 1739 г. За этот семилетний промежуток времени встречается только три факта крещения нерусского населения. Это незначительное количество дает основание сделать вывод, что миссионерское движение на Вятке по большей части зависело от усилий, и главное — желания местного архиерея крестить нехристианские народы.
Резюмируя данные исследования, можно сделать следующие выводы. Изначально еп. Алексий не преследовал цели христианизации местных народов. Приехав в этот северный край, новый архиерей не сразу занялся организацией миссионерской деятельности. Только после получения известия о присылке царского указа в Казань еп. Алексий начинает делать первые шаги к просвещению удмуртов.
В этой деятельности еп. Алексий руководствовался инструкцией, присланной ему из Св. Синода. При этом в некоторых действиях епископа можно увидеть незначительное отступление от синодальной инструкции. Так, он несколько сокращает объем молитв, необходимых для новокрещеных удмуртов, нет в его инструкции и указания на изучение христианских догматов о Св. Троице и воплощении Сына Божия, хотя это предписывалось инструкцией Св. Синода [ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 21. Л. 4–4 об.].
Ввиду отсутствия объяснений о причинах, вызвавших такую перемену, можно лишь догадываться, почему сокращался объем преподаваемого учения. Если учитывать тот факт, что еп. Алексий старался следовать древнему правилу о продолжительном обучении оглашаемых, то вряд ли есть основания предполагать, что сокращение это было вызвано нерадением архипастыря. Уже упоминавшийся нами Иерусалимский епископ Кирилл, как наиболее признанный авторитет катехизации, в своей практике не допускал преподавания оглашаемым учения о Св. Троице и некоторых членах Символа веры, «яко младенствующим в вере» [Кирилл Иерусалимский, 1991, 2]. Если к этим соображениям прибавить еще то, что еп. Алексий мало внимания уделял социальным поощрениям для принимающих крещение, то стоит признать, что его действия вполне согласовывались с древним опытом христианизации.
При всей живой связи с отеческим богословием и умением направить христианизацию на путях древнего благочестия, стоит заметить, что успех еп. Алексия слагался не только из его личных усилий. Благоприятным обстоятельством, способствовавшим миссии, была близость удмуртских селений к русским городам и селам. Крестились те удмурты, которые проживали близ русских. В действиях этого архиерея не видно той энергии, с какой в это время проповедуют в соседних епархиях Алексей Раифский, сумевший за четыре года крестить более трех тысяч марийцев, или сибирский схимонах Феодор, новокрещеная паства которого простиралась до нескольких десятков тысяч. Еп. Алексий не выезжал в удмуртские селения, а только направлял указы, в которых прописывал способы обращения язычников в христианскую веру. Последние же пять лет его управления Вятской епархией миссионерская деятельность среди удмуртов и вовсе приостановилась. Также обращает на себя внимание отсутствие какой-либо дальнейшей работы с новокрещеными. Возможно, еп. Алексий полагал, что эту работу на себя возьмут русские благочестивые люди. То, что некоторые удмурты видели в русских наставников веры, подтверждается их последующими донесениями, например таковым Афанасия Попова, просившего позволения жить у своего «восприемного отца», жителя г. Слободского Аники Попова [ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 81. Д. 127. Л. 1]. В истории еп. Алексия получилось так, что делу вятской миссии было дано только начало. Развивать и укреплять ее предстояло следующим поколениям архипастырей.
Список литературы Епископ Алексий (Титов): у истоков вятской миссии
- Древние акты (1881) - Древние акты, относящиеся к истории Вятского края. Приложение к 2 тому сборника "Столетие Вятской губернии". Вятка, 1881. 245 с.
- Описание (1868) - Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Синода. Т. I. СПб., 1868.
- ПСРЛ - Полное Собрание Русских Летописей, СПб., 1841. Т. 3.
- РГИА - Российский государственный исторический архив. Ф. 796. Оп. 1. Д. 157.
- ЦГАКО - Центральный Государственный архив Кировской области. Ф. 237. Оп. 2. Д. 3; 74. Д. 14, 21; Оп. 81. Д. 13, 127.
- Алексеев (2000) - Алексеев А. И. Алексий (Титов). Православная энциклопедия. М., 2000. Т. I. С. 673-675.
- Бергейм (1908) - Бергейм Э. Введение в историческую науку / Пер. с нем. В. А. Вейнтока. СПб., 1908. 69 с.
- Буевский (1901) - Буевский А. Алексий Титов, архиепископ Вятский. Вятка, 1901. 104 с.
- Греджева (2011) - Греджева Е. В. Поиски нравственных ориентиров в "Материалах для биографии Алексия Титова, архиепископа Рязанского и муромского" В. П. Титова // Вестник МГОУ. 2011. № 6. С. 133-137.
- Дементьев (2007) - Дементьев Б. П. Христианизация Вятки: исторический аспект // Православие на Вятской земле (к 350-летию Вятской епархии): материалы межрегиональной научной конференции. Вятка [Киров]. 2007. С. 47-52.
- Кирилл (1991) - Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М., 1991. 366 с.
- Кустова (2014) - Кустова Е. В. Личностный фактор в миссионерской деятельности среди удмуртов в середине XVIII в.: на материалах жизни игумена Феодота (Ившина) // Вестник Удмуртского университета. 2014. Вып. 1. С. 48-55.
- Луппов (1899) - Луппов П. Н. Христианство у вотяков со времени первых исторических известий до XIX века. СПб., 1899. 333 с.
- Перетяткович (1877) - Перетяткович Г. Поволжье в XV и XVI веках. М., 1877. 331 с.
- Фармаковский (1863) - Фармаковский И., свящ. Материалы для истории Вятской епархии // Вятские епархиальные ведомости. 1863. № 2. С. 46-63.
- Флоровский (2008) - Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. М., 2008. 848 с.
- Шерстников (1890) - Шерстников А. Исторические сведения о селе Укане и Уканском приходе Глазовского уезда // Вятские епархиальные ведомости. 1890. № 4. С. 86-94.