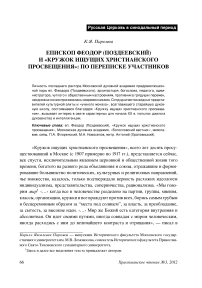Епископ Феодор (Поздеевский) и «Кружок ищущих христианского просвещения»: по переписке участников
Автор: Паромов Кирилл Яковлевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Русская Церковь в синодальный период
Статья в выпуске: 3 (44), 2012 года.
Бесплатный доступ
Личность последнего ректора Московской духовной академии предреволюционной поры еп. Феодора (Поздеевского), архипастыря, богослова, педагога, администратора, чуткого к общественным настроениям, противника грядущих перемен, неоднозначно воспринималась современниками. Сотрудничество видных представителей культурной элиты и «ученого монаха», возглавившего старейшую духовную школу, состоявшееся благодаря «Кружку ищущих христианского просвещения», вызывает интерес в свете характерных для начала ХХ в. попыток диалога духовенства и интеллигенции.
Еп. феодор (поздеевский), "кружок ищущих христианского просвещения", московская духовная академия, "богословский вестник", имяславие, свящ. п.а. флоренский, м.а. новоселов, митр. антоний (храповицкий), их перемен, неоднозначно воспринималась современниками. сотрудничество видных представителей к
Короткий адрес: https://sciup.org/140189971
IDR: 140189971
Текст научной статьи Епископ Феодор (Поздеевский) и «Кружок ищущих христианского просвещения»: по переписке участников
«Кружок ищущих христианского просвещения», всего лет десять просуществовавший в Москве (с 1907 примерно по 1917 гг.), представляется сейчас, век спустя, исключительным явлением церковной и общественной жизни того времени, богатого на разного рода объединения и союзы, отражавшие и формировавшие большинство политических, культурных и религиозных направлений, чье множество, казалось, только подтверждало верность расхожих идеологем индивидуализма, представительства, соперничества, рационализма. «Мы говорим мир 1 ‹…› когда все в человечестве разделено на партии, группы, мнения, классы, организации, кружки и все враждуют против всех, борясь самым грубым и бесцеремонным образом за “места под солнцем”, за власть, за преобладание, за сытость, за высокие идеи. ‹…› Мир же Божий есть категория внутренняя и абсолютная. Он идет своими путями, иногда совпадая с миром человеческим, иногда расходясь с ним до величайшего контраста и отрицания», — писал в
Кирилл Яковлевич Паромов — выпускник Исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, соискатель Исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
канун 1915 г. близкий кружковцам философ В.Ф. Эрн 2 . Стремлением избежать пагубного расхождения и было вызвано к жизни новое объединение.
Идея содружества владела П.А. Флоренским, сочинявшим незадолго до поступления в Московскую духовную академию 3 : «Мало-помалу из [лиц. — К.П. ] связанных узами любви и единомыслия, в связи с надвигающейся мистической грозой и усилением антихристианских — спиритических и магических — общественных течений, составилось братство. Некоторые из братьев имели духовный сан. Сейчас они собираются на общее богослужение в условленный сборный пункт из своих приходов и мест своих занятий, где они борются с надвигающейся грозой, пока неявной» 4 . Осуществленный, «кружок помог многим, находившимся “около церковных стен”, войти не только в Церковь, но и в алтарь. Священнический сан приняли о. Павел Флоренский, о. Сергий Булгаков, о. Александр Ельчанинов, о. Сергий Дурылин, о. Феодор Андреев, о. Сергий Мансуров, а М.А. Новоселов причислен к лику святых. Видными церковными деятелями были кн. Е.Н. Трубецкой, кн. Г.Н. Трубецкой, Ф.Д. Самарин, А.Д. Сама-рин 5 , П.Б. Мансуров, Н.С. Арсеньев, Н.Д. Кузнецов, И.П. Щербов. Кружку были близки В.М. Васнецов 6 и М.В. Нестеров» 7 . Однако, без имени епископа Феодора (Поздеевского) этот перечень не будет полон. Достаточно сказать, что трое названных священников — П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, С.Н. Дурылин — рукоположены владыкой. Последний — по благословению прав. Алексия Мечёва и прп. Оптинского старца Анатолия (Потапова), а второй — свт. Тихона («Я и не подумал, что Патриарх мог иметь желание сам совершить мое рукоположение, когда просил его поручить совершить это Преосвященному Феодору», — вспоминал прот. Сергий 8 ).
Время возникновения общества — самое начало 1907 г. Январем датирован устав, первый параграф которого определял миссию «Кружка…» — «помогать своим членам, а также посторонним лицам, которые будут к нему обращаться, в усвоении начал христианского просвещения». Тут же значилось: организация «никаких политических целей не преследует и в обсуждение политических вопросов не входит» 9 . Недавняя активность большинства ее создателей именно в этой сфере делала оговорку важной. Так, монархический «Кружок москвичей», пользовавшийся с 1905 г. влиянием в «правом» лагере, возглавлял Ф.Д. Самарин, чьи сотрудники — В.А. Кожевников, А.А. Корнилов, П.Б. Мансуров. Поддерживал кружок не числившийся в нем М.А. Новоселов. А «Христианское братство борьбы», где «христианство» было, по сути, тождественно «социализму», возникло в том же году усилиями В.Ф. Эрна, В.П. Свенцицко-го, А.В. Ельчанинова, А.С. Глинки-Волжского, С.Н. Булгакова, при сочувствии студента МДА П.А. Флоренского.
Но еще 10 августа 1905 г. М.А. Новоселов писал Ф.Д. Самарину: «теперь сердце мое отвалилось от политики, в которую вовлекли его особые обстоя-тельства»10. А спустя два года уже С.Н. Булгаков признавал: «Мое отношение к политике теперь совершенно внешнее. ‹…› Мир все утрачивает для меня абсолютную ценность ‹…› Все сильнее чувствую правду и глубину Розановской альтернативы в статье об Иисусе Сладчайшем: или мир, или Христос»11. Общий, во многом, настрой призывал к сотрудничеству, Булгаков заинтересовался Новоселовым, который сразу показался ему «очень мил и подлинно религи-озен»12, а летом 1907 г. попытался занять преподавательскую вакансию в МДА (где с 1904 г. учился П.А. Флоренский) и представить на соискание степени магистра богословия свой труд по политэкономии (ранний вариант «Философии хозяйства»)13, рассказав в академическом вестнике «о необходимости введения общественных наук в программу духовной школы» (1906. №2.).
Однако учредили «Кружок…» именно «правые»: М.А. Новоселов, Ф.Д. Самарин (председатель), В.А. Кожевников, Н.Н. Мамонов и П.Б. Мансуров. К ним в течение 1907–1908 гг. присоединились А.А. Корнилов, А.И. Новгородцев (родной брат знаменитого правоведа и общественного деятеля) и ректор Московской духовной семинарии архимандрит Феодор (Поздеевский).
Не случайно появление в «Кружке…» первого представителя духовенства. До перевода в Москву с марта 1904 г. по август 1906 г. архим. Феодор занимал ту же должность в Тамбове 14 , где участвовал в образовании (в окт. 1905 г.), а затем возглавил Серафимовский Союз русских людей, членом которого состоял губернский помещик П.Б. Мансуров 15 . Не прекращавший активного участия в Союзе, он высоко ценил духовное влияние и организаторскую роль ар-хим. Феодора 16 , выпускника Казанской академии 1900 г., ученика и постриженика епископа Антония (Храповицкого), занимавшего пост ректора в 1895–1900 гг. Архимандрит не потерял связи со своим наставником, быстро шедшим в го-ру 17 и ставшим к 1917 г., несмотря на свою «крайне правую» «клерикальную» репутацию, едва ли не самым популярным иерархом Русской Церкви.
Ф.Д. Самарин хорошо знал владыку Антония по совместной работе в Предсоборном присутствии. Вспоминая шесть лет спустя обстоятельства знакомства, Волынский архипастырь уверял, что для него «нет большей радости, как встретить независимого и просвещенного соотечественника, который не по положению и не по пассивной привычке детства, а свободно и сознательно при- знает Христову Церковь сокровищницею истинною и не выбирает из нее только то, что находит по вкусам нашей эпохи, положения и сословия, а напротив, из нашей культуры и сословных преданий признает справедливым только то, что согласно Божественному учению, содержимому Церковью…»18. Архиепископ не был одинок в столь высокой оценке (и это притом, что Федор Дмитриевич холодно относился к заветному желанию владыки — видеть Русскую Церковь вновь патриаршей) личности и способностей старшего Самарина. Неудивительно, что в 1906 г., за который сменилось три обер-прокурора Св. Синода, он получал предложение занять этот пост19 (а также пост министра земледелия). Но оба раза ответил отказом, посчитав для себя возможным лишь принять участие в деятельности Государственного совета, по выборам от дворянства Московской губернии (1906–1908)20.
Председатель «Кружка…», Ф.Д. Самарин в разосланной летом 1907 г. членам-учредителям статье «О задачах и характере устраиваемых “Кружком” бесед» главной целью назвал освобождение русской религиозной мысли от «неискренности» — «последствия внешнего гнета», «так долго» над ней тяго-тевшего 21 .
В речи, посвященной юбилею МДА, о том же говорил еп. Феодор (Позде-евский) 22 : «…хочется теперь, на пороге нового столетия академической жизни, пожелать вступающим в него ‹…› начать решительную борьбу против гнета рационализма с Запада, как прежде наша школа боролась против уз схоластики, тоже пришедшей с Запада». Что возможно лишь на «пути веры, нравственного развития и введения в свою личную жизнь духа христианской жизни для того, чтобы уразуметь тайны духовной мудрости и богословствовать» 23 .
Мысли эти были характерной программой части ученой и, шире, общецерковной среды начала века 24 . Так, годом позже профессор той же академии архим. Иларион (Троицкий) 25 убеждал слушателей: «На борьбу с этим-то вредным латинско-немецким засилием и его печальными плодами в нашем богословии я и считаю своим нравственным долгом вас призвать» 26 . В ряде выпусков «Религиозно-философской библиотеки» М.А. Новоселов напомнил о границах Церкви, за которыми остаются католики и все многообразие протестантских сект.
Еп. Феодору «освободительная борьба в области богословия» виделась преимущественно как «личное делание»: «В области церковной жизни может быть и должна быть только одна главная реформа — покаяние и молитва, а все остальное, тоже, конечно, полезное, пойдет из этой благодатной реформы духа»27. Традиционный взгляд этот, характерный для владыки и разделявшийся кружковцами, вызывал неприятие волновавшейся религиозными темами интеллигенции. «Новоселовщина и Флоренщина — спасение себя, а где же у них найдется место в душе для погубления души “за други своя”», — негодующе предостерегал М.С. Шагинян А. Белый (письмо от 18 авг. 1909 г.). Обобщенный, тот же укор прозвучал в ответе символиста Н. Валентинову (Н.В. Вольскому): «Россия, конечно, носит в себе огромную тайну, но покров с нее не сняли и никогда не снимут люди с славянофильским направлением. У них для этого нет умственной и настоящей религиозной силы. ‹…› Покров с тайны России снимет только будущая революция, а кто же, хотя бы на минуту, может серьезно думать, что ее сделают новые Хомяковы и Достоевские?»28. В канун желанной разгадки уже В.В. Розанов, недоуменно перечитывая другого современного мыслителя, указывал на безосновательность обвинений: «“Личное спасение себя, личное спасение своей души” ‹…› Однако может ли сказать Бердяев, чтобы Христос к чему-нибудь другому, к чему-нибудь иному призывал человека ‹…› Решительно нет, решительно круг Евангелия действительно и очерчен заботою о спасении души, — своей личной души, вот как она станет пред Богом»29.
Тревогу А. Белого и Н.А. Бердяева, имея за плечами опыт трех революций, гражданской войны и первых эмигрантских лет, склонен был разделить протоиерей Сергий Булгаков. Иная тональность не меняет смысла его раздумий: «…про себя лично скажу, что, хотя в бытовых и практических отношениях я шел об руку с этим культурным консерватизмом (как он ни был слаб в России), исповедовал почвенность, однако в глубине души никогда не мог бы слиться с этим слоем, который у нас получил в идеологии наиболее яркое выражение в славянофильстве (с осколками славянофильства: Ф.Д. Самариным, П.Б. Мансуровым, М.А. Новоселовым, В.А. Кожевниковым и др. я дружил и лично). Меня разделяло общее ощущение мира и истории, какой-то внутренний апокалипсис, однажды и навсегда воспринятый душой, как самое интимное обетование и мечта. Русские почвенники были культурные консерваторы, хранители и чтители священного предания, они были живым отрицанием нигилизма , но они не были его преодолением, не были потому, что сами они были, в сущности, духовно сыты и никуда не порывались души их, никуда не стремились» 33 .
Все же, главное в этой характеристике для понимания «Кружка…» — без сомнения, «дружба». Ведь и формулировка «новоселовщина с флоренщиной» подразумевает соучастие, сообщество. Вот оно, видимое не ретроспективно и не сторонним критиком, а непосредственно в ответе В.А. Кожевникова Ф.Д. Самарину по «плану бесед»: «От Ваших мыслей ‹…› я в настоящем восторге: так по душе мне это опасение стать “учителями” и миссионерами! так верна мысль о том, что поучение в данном случае достигаться должно взаимностью, собеседованием, духовным общением ‹…› надо не учить откуда-то сверху , а совместно поучаться , в простой непринужденной дружеской беседе. ‹…› Итак, с этой стороны, — задумано прекрасно!» (26 июля 1907 г.) 34 .
Неудивительна позднейшая оценка свящ. П.А. Флоренским вклада Ф.Д. Самарина, воплощавшего родовую традицию: «Первоначальное славянофильство, опираясь на дружески-родственное ядро, справедливо подчеркнуло значение дружества — познавательное и почти догматическое. ‹…› Феодор Дмитриевич оставался верен этой первоначальной стихии славянофильства. Он искал дружеского общения, хотел дружеского обсуждения интересовавших его богословских, философских и церковно-общественных вопросов, не доверяясь мысли одинокой и вместе не полагаясь на сношение печатное, в котором нет общения личного» 35 .
Подлинного единодушия желали и корреспонденты Самарина. М.А. Новоселов писал о молитвенной связи, необходимой для «внутреннего единения». Архимандрит Феодор не согласился с председателем в том, что «единение в молитве есть лишь общение в области чувств », уверяя: «только ‹…› в молитвенном единении возможно не только “едино сердце и усты”, но и “ едина воля и едина мысль ”» 36 .
Гораздо более сдержанной была и позиция ректора семинарии архим. Феодора (Поздеевского). Согласившись с Ф.Д. Самариным в том, что «школьное богословие стоит на ложном пути», он указал, что все «свежие ростки» здесь могут быть лишь «побегами единого святоотеческого корня». Отсюда и «наша задача теперь, после того, что сделали св. отцы, не творчество нового, а возобновление старого, популяризация их творческой работы» 40 .
Внутренняя полярность была присуща работе «Кружка…», во многом организовывая творчество участников. Причем, место владыки Феодора, кто бы ни занимался раскладкой общих координат, было именно «справа». Самих же «ищущих» не оставляло желание преодолеть разобщенность, в которой чувствовалось не уникальное своеобразие «Кружка…», а серьезная помеха на пути к цели. Так, спустя пять лет, В.А. Кожевников писал Ф.Д. Самарину: «Право, мы слишком уже щепетильно относимся к опасности расхождений во мнениях о некоторых вопросах: при единении в главном, в существенном, и при том духовном сплочении, которое, по милости Божией, уже действительно создало некое духовное братство между нами, такие расхождения не нарушат ни мира взаимного, ни субъективного мира совести каждого. Но беседы — беседами…А из намеченных Вами двух практических задач первая — издание избранных святоотеческих творений ‹…› — прямо отвечает одной из моих заветных мыслей. ‹…› Значительно труднее, думается мне, было бы выполнение второго: составление или издание краткого толкования на Св. Писание или, сначала, — на новозаветные книги. Нечего доказывать, что такая работа нужна и своевременна. ‹…› ни западные толкования, ни наши современные, ни, наконец, древние, отцев и учителей Церкви, — не то, чего Вы хотите. ‹…› Но думаете ли Вы, чтобы эту потребность ощущали ‹…› и другие, близкие нам люди, скажем, например, авва Михаил [так несколько в шутку называли М.А. Новоселова. — К.П.]?.. Или епископ Феодор? Мне сдается, что для них наилучшее толкование уже дано, уже готово в трудах святоотеческих на эту тему и что таковые, по их мнению, не превзойти. ‹…› Не знаю, как пройдет вопрос о сочетании святоотеческих толкований с “новыми” и у нашего левого фланга, например, у Сергея Николаевича (Булгакова. — К.П.)? ‹…› В этом-то именно и могла бы сказаться совместная работа мысли “Кружка” и могли бы проявиться результаты его коллективных убеждений, его критерия, его способа соединять неветшающее древнее со здоровым новым! ‹…› Но боюсь, сильно даже боюсь, что тут-то и не удастся достигнуть нам соборного единства в нашем скромном духовном братстве»41.
Подавно «строг» был владыка Феодор для упомянутого «левого фланга». С.Н. Булгаков недаром взял его в пример, говоря в письме к свящ. П.А. Флоренскому (23–24 февраля 1914 г.) о несовместимости эзотерики А.Н. Шмидт с миром «традиционной», «обычной» Церкви: «Потому думаю, что призыва осторожности от классной дамы (будет ли то еп<ископ> Феодор…) Анна Николаевна [Шмидт. — К.П. ] не услышала бы и не послушала бы, а сия дама должна была бы ее по правилам заведения ‹…› исключить…» 42 .
Не стоит, однако, преувеличивать это деление в рамках «Кружка…». В противном случае сотрудничество вряд ли оказалось бы возможным. Тот же С.Н. Булгаков рассчитывал на помощь владыки в работе над наследием и биографией архимандрита Феодора (Бухарева)43 , чей пререкаемый труд («Исследование Апокалипсиса») увидел свет на страницах печатного органа академии в 1913–1916 гг. Более того, предлагая в 1912 г. свящ. П.А. Флоренскому возглавить издание «Богословского вестника», вл. Феодор, конечно же, был в курсе намечаемых им перемен в редакционной линии, невозможных без привлечения сотрудников, единомышленных и интересных новому редактору. По письму свящ. Павла В.Ф. Эрну (26 июня 1912 г.), видно, что он колебался: «Если бы я взялся за это дело, то мне надо бы поставить журнал живо. А я не знаю, найдутся ли для этого силы. Разумеется, если я соглашусь, то заручившись твердым обещанием помощи со стороны “своих”, то есть Вас, С. Н-ча [Булгакова. — К.П.], Волжского [А.С. Глинки. – - К.П.], М.А. Новоселова, Саши [А.В. Ельчанинова. — К.П.] и т.д…»44. Сколь ответственным для самого ректора (цензора издания) было это предложение видно из сказанного о. Павлом В.В. Розанову (24 мая 1913 г.): «…Новоселов сейчас persona ingrata (нежелательное лицо (лат.). — К.П.) ‹…› Булгаков, Бердяев, “Путь”45, Эрн находятся у Остроумова46 и др. под подозрением в тайной революционной пропаганде (это я достоверно знаю от еп. Феодо-ра)»47. Приняв назначение, Флоренский делился своими взглядами и планами с В.Ф. Эрном (20 декабря 1912 г.): «Ругайте иезуитов сколько угодно — это полезно. Под видом протестантов разделывайтесь с Тареевым48 и проч<ими> — сему рукоплещу. Хвалите Восток, Макс<ма> Исп<оведника>, Дион<исия> Аре-оп<агита>, Григория Паламу, Николая Кавасилу и т.д. и т.д. —сие лобзаю. ‹…› Не по поводу “Б<огословского> В<естника>”, это было бы слишком громко, — но скажу: нам надо создавать православную науку, ее почти нет, если не считать утерянных нитей отеческой мысли и лишь еле-еле нащупываемых в монастырях да отд<ельными> лицами. История, археология, филос<офия> во всех ее разветвлениях, даже богословские науки — все это требует творческого слова. Будем же хоть почву расчищать для этой работы»49 .
Вместе с Флоренским в вестник пришел «Кружок…», чьи возможности он так ценил, — со своими противоречиями, личными поисками участников, но и обязательно со стремлением к сплоченности и единству. Но не только — В.А. Кожевников в письме, отправленном 15 апреля 1913 г., радовался удаче редактора: «Как хорошо, что Вы привлекли статьи В.В. Розанова в Б.В.! В “Анафеме” [«Впечатления мирянина. “Торжество Православия” в служении Антиохийского Патриарха». — К.П. ] тон могучий, местами — прямо потрясающий. Воображаю, как прогневит 2-я статья левый лагерь!» 50 . Действительно, этой второй — «Не нужно давать амнистию эмигрантам» (за резкость тона отклонена редакцией «Нового времени») — предстояло сыграть особую роль в судьбе автора. Вместе со статьей «Андрюша Ющинский» (Земщина, 13 октября 1913 г.) она дала повод исключить В.В. Розанова из Санкт-Петербургского Религиознофилософского общества, инициатором которого он был. Впрочем, логика происшедшего вполне ясна. Еще в конце 1907 г. Д.С. Мережковский писал из Парижа А.С. Глинке-Волжскому, отмечая перемену: «Вы все “поправели”, мы [адепты «нового религиозного сознания». — К.П. ] — “полевели”. И это не на политической суетной поверхности, а глубже, принципиальнее. ‹…› Сближение Булгакова с Новоселовым, который есть несомненнейший “черносотенец”, их общее склонение к православному “житью-бытью” производит на нас самое тягостное впечатление. ‹…› Ревную я вас всех к православию…» 51 .
Любопытно, но сходную эволюцию самого В.В. Розанова, — едва ли не главного «антигероя» (среди прочих Д.С. Мережковский, Н.М. Минский, К.Д. Бальмонт, В.А. Тернавцев, Н.А. Бердяев, Ф. Ницше, М. Горький, Л.Н. Андреев) академических лекций и печатных выступлений52 вл. Феодора, — отмечал сам епископ: «Я читал почти все Ваши сочинения. Сначала смущался, потом возмущался. Последние Ваши мысли (“Уединенное”, и в “Нов. Вр.”53) стали радовать за Вас. А статья “Мы хороши”54, сию минуту прочитанная, уже ободряет и нас» (14 дек. 1912 г.)55. Ректор МДА, вся жизнь которого была связана с духовной школой (учился, затем преподавал и начальствовал, пережив 2 мая 1906 г. покушение семинариста в Тамбове) вряд ли обошел вниманием слова писателя: «В старой бурсе, где было так ужасно жить, где даже “секли за проступки” никто не самоубивался. ‹…› Да из такой сеченой бурсы вышли и Филарет Московский, и Иннокентий Таврический. ‹…› Но перестали сечь: вдруг молодые люди сами себя начали “сечь” самоубийствами и преступлениями. ‹…› “Человеку должно быть тяжело” — вот закон. ‹…› Да почему?!! — Да потому, что он “не ангел”, которые одни “летают”, а — “стопоходящее существо”, с виною на себе, с виною всеобщею, неотложною, индивидуальною у каждого. И за эту-то…“вину” должен нести и “тяжесть”. А нет ее, — и “вину” он выражает в “преступлении”. Те, которые “всех вообще секли”, секли за врожденное, скрытое у всех преступление. И ведь оно в самом деле есть, и его надо чем-то “прижать к земле”»56.
«Глубокоуважаемый, дорогой Василий Васильевич! ‹…› Вчера у нас в “Кружке” была беседа; Серг. Никол. Дурылин, милый, умный и чистый своею русскою душой, молодой, но уже достаточно известный лектор делился своими впечатлениями о северных русских храмах и иконах…а кончил он чтением Вашей статьи “Русс. церковное воспитание”57; и все присутствовавшие и внимавшие были зачарованы и приведены в умиление. Создался момент (не боюсь сказать) литургически-благоговейный. И если такие настроения даются чтением Ваших этих страниц, значит, в них воплотился воистину благодатный сев “бесценного бисера — Христа”…», — писал В.А. Кожевников в конце ноября 1914 г.58 «Не разрешите ли Вы мне напечатать 2–3 страницы в “Бог<ословском> вест<нике>” о книге В<асил>ия В <асильевича> “Война 1914 г. и возрож<дение>”? Долг совести и безграничного преклонения пред мудростью и слезами этой книги велит мне просить об этом. Я остановлюсь само собою первее всего на “Русс<кое> религиоз<ное> восп<итание> и немец<кие> зверства” и укажу на эту статью, как на ось, вокруг кот<ор>ой может вращаться все понимание совр<еменных> событий», — спрашивал 8 декабря о. Павла сам Дурылин59.
И все же — «Как Вы такого декадента и символиста, как Флоренский, поставили редактором “Богословского вестника”?» — интересовался у архиепископа в 1932 г. (!) А.Ф. Лосев, оказавшийся вместе с ним в заключении на Свирь-строе. «Все знаю. Символист, связи с Вячеславом Ивановым, с Белым ‹…› Но это почти единственный верующий человек во всей Академии! ‹…› Когда я стал ректором ‹…› и познакомился с тем, как ведется преподавание, со мной дурно было. Такой невероятный протестантский идеализм — хуже всякого тюбинген-ства 60 ». (Недаром восклицал С.Н. Булгаков: «О. Федор, м<ожет> б<ыть>, попадет в ректоры Академии, жаль его!» (11 июля 1908 г.) 61 ) А Розанов? «Скажите, я его спросил», — продолжал вспоминать А.Ф. Лосев, — «отец Павел, вы видели гениальных людей? Да. Это Вячеслав Иванов, Андрей Белый и Василий Васильевич Розанов» 62 .
По переписке участников «Кружка…» видно, что ректор не переставал следить за работой академического журнала и после того, как ее возглавил доверенный человек. «Дорогой Володя!», — писал В.Ф. Эрну в Италию о. Павел, — «должен бы поблагодарить Вас за Ваши прекрасн<ые> “Письма о Риме”63. 1-ое уже вышло в свет ‹…› и всем нравится, в частн<ост>и получило одобрения и похвалы Преосв<ященного> Феодора, рект<ора> Ак<адемии>» (20 декабря 1912 г.)64. М.А. Новоселов информировал редактора 7 ноября 1916 г.: «Владыка, увидев у меня рукопись Веры Тимофеевны Верховцевой и узнав ее содержание, возжелал напечатать ее в “Б. В.”65 (Я, вероятно, раньше сказал ему, что Вы ду- маете ее напечатать) и даже подписал “разрешение”»66. Иной пример: В.А. Кожевников в письме от 23 декабря 1913 г. благодарил о. Павла: «Спасибо Вам и автору статьи о Федорове в Декабр. книжке (рецензия С.А. Голованенко на двухтомник сочинений Н.Ф. Федорова, подготовленный и изданный Кожевниковым вместе с Н.П. Петерсоном. — К.П.). Статья серьезная, дельная и для выяснения значения Федорова очень полезная»67. Однако, отвечая вскоре (5 марта 1914 г.) горячему последователю Н.Ф. Федорова Н.П. Петерсону, Владимир Александрович отметил, что еп. Феодор запретил публикацию (в февральском выпуске) следующей статьи Голованенко об учении Н.Ф. Федорова как «распространяющей идеи, несогласные с некоторыми истинами христианского учения», несмотря на стремление автора дистанцироваться от положений Федорова68.
Опубликовав за время сотрудничества в «Богословском вестнике» (1913–1917 гг.) свыше 20 материалов, С.А. Голованенко большую часть статей (были еще рецензии) посветил разбору «философии общего дела» и отношения ее к христианству. Но в февральском номере за 1914 г. его работ, действительно, нет. Молодого талантливого автора, закончившего академию в 1912 г., высоко ценил свящ. П.А. Флоренский. Успев «привязаться» к нему за годы учебы, писал своему учителю проф. А.И. Введенскому: «по совести могу сказать, что сделал, что мог, чтобы “воспитать” его так, чтобы ‹…› дать за него, как за ученика, ответ пред Богом. ‹…› Вы спросите, о чем я старался. Менее всего о том, чтобы “приготовить” “профессора”, а исключительно о том, чтобы помочь развиться “человеку”, т. е. ‹…› сознательному и убежденному борцу за христианство, который был бы во всеоружии и в которых мы, наша Русская Церковь, так нуж- дается теперь»69. Был Голованенко симпатичен и Розанову, желавшему выдать за преподавателя Ярославской семинарии одну из дочерей70.
Все же, последнее слово было за еп. Феодором. «Дорогой и многоуважаемый Павел Александрович! ‹…› Я думал, что напечатание в “Бог<ословском> Вест<нике>” зависит всецело от Вас. Сильно опасаюсь, что ректор не пропустит», — беспокоился о статье «Эллинизм и Церковь» 71 С.М. Соловьев (27 авг. 1913 г.). Поэт-символист, внук знаменитого историка, племянник и биограф В.С. Соловьева, выпускник историко-филологического факультета, в 1915 г. он поступил на второй курс академии, окончив которую (1918 г.) остался преподавателем, приняв в феврале 1916 г. священнический сан (впоследствии перешел в унию). В его словах нет предвзятости. «…Мечтаю приехать в Лавру на несколько дней. Хочется повидать пресвященного Феодора. Я много слышал о нем от римского архимандрита Дионисия, ныне епископа в Кременце 72 », — начало переписки с о. Павлом (8 июля 1913 г.). «Передайте, пожалуйста, преосвященному Феодору, что я очень благодарен ему за изменения и пропуски в моей статье 73 . Я совершенно не умею поправлять и изменять раз написанное, и тем более рад, когда это делают другие, с тактом и пониманием дела» (25 марта 1915 г.) 74 .
В конце 1912 г. непременный член Св. Синода епископ Никон (Рождественский) (видный церковный журналист, возглавивший вскоре новообразованный Издательский совет при Синоде, настоятель Данилова монастыря в 1904–1908 гг.), В.А. Кожевников, М.А. Новоселов и Ф.Д. Самарин академическим Советом и Св. Синодом были утверждены в звании почетных членов МДА75. «Этим избранием Совет Моск. дух. академии заявил, что он ценит и ставит высоко заслуги указанных работников на поле церковном»76. Инициатива по выдвижению трех последних кандидатур принадлежала, скорее всего, еп. Феодору, возникнув благодаря «Кружку…». Отец Павел Флоренский сообщал В.А. Кожевникову 15 марта: «В этом году надо подготовить почву для юбилея “Рел.-фил. библиотеки”, и я думаю летом поместить в “Бог. вестн.” статью о “Рел.-фил. библ.” и ее основателе [М.А. Новоселове. — К.П.]. Но, вместе с тем, мне хотелось бы, — а таково же и желание преосв. Феодора, — подготовить почву и для Вашего избрания ‹…› и не нахожу для этого более удобного пути, как написать статью о Вас. Впрочем, таковая давно необходима и независимо от вопроса об избрании Вашем, — необходима для нас, для России, ибо все русское у нас затирается. Это дело не только Вашей известности, но — и силы нашего общего направления к церковности и самобытности народной. Вот почему Вы не имеете права, каков бы ни был голос Вашей скромности противиться нашему (т.е. преосв. Феодора, моему, сюда же отнести надо Ф.К. Андреева) желанию и намерению»77.
Продолжая уговаривать Кожевникова, о. Павел, исходя из условий академической работы, раскрывал смысл отличия. 19 марта 1912 г.: «Ваше отношение к Академии должно благотворно повлиять на наши нравы. Посмотрите, люди в год ухитряются написать и чуть не напечатать докторскую диссертацию, в которой все основано на вещах им до того вовсе не известных и требующих большого времени ‹…› водворяется какое-то циническое трактование культуры и науки. ‹…› Вот, Вы, более, чем кто-нибудь в России, даже без всяких слов, просто фактом своего существования, можете противодействовать этому бесстыдству. Повторяю, Ваше отношение к Академии положительно необходимо для нас, для церковной науки, и мне было бы тяжело видеть в Вас непонимание или несозна-ние этой важности»78. Флоренский готовил программу издания трудов будущего корпоранта, чьи научные достижения и возможности ценил очень высоко. 17 августа 1912 г.: «…главный интерес от Ваших работ именно в их целом. Каждую из Ваших монографий, в отдельности, б. м. и могут написать другие; но никто в мире не возьмется написать цикл Ваших работ, суть которых коротко можно передать сенековским: Volentem fata dicunt (к христианству) nolentem — trahunt [Желающего идти судьба ведет, не желающего — влачит (лат.) — К.П.]. Ваша точка зрения столь оригинальна…и, главное, столь конкретно (а в этом — все дело) доказывается, что было бы грехом лишить нас трудов, где она осуществлена. ‹…› Мих. Алекс. [Новоселов. — К.П.] ‹…› высказывает желание печатать Ваши opera в “изданиях Рел.-фил. Библ.”. ‹…› Со стороны денежной особенных затруднений не предвидится, ибо часть трудов можно будет напечатать в “Бог. вестн.” и издать оттисками, а часть — непосредственно. Ваши труды хорошо расходятся»79. Наряду со свв. отцами, А.С. Хомяковым, Ф.М. Достоевским, вл. Антонием (Храповицким), В.А. Кожевников — наиболее цитируемый автор академического курса лекций еп. Феодора.
Представления к избранию Новоселова и Кожевникова написал Флоренский. Ф.Д. Самарина — Ф.К. Андреев, в следующем году успешно выполнивший кандидатское сочинение «Юрий Федорович Самарин, как богослов и философ» и тут же назначенный исполнять должность доцента академии по кафедре Систематической философии и логики 80 .
Высокое отличие подчеркивало значение, придававшееся существованию и работе «Кружка…», демонстрировало приязнь и уважительное отношение официального церковного круга. «Я вполне сознаю, что не имею никаких прав на это почетное звание и обязан избранием лишь имени, которое ношу, и благосклонному отношению ко мне Преосвященного Феодора, а также, может быть, моему скромному участию в Новоселовском кружке, которому хотели оказать внимание», — писал о. Павлу Ф.Д. Самарин 81 .
Неудивительно, что к тому же году относится попытка свящ. П.А. Флоренского устроить С.Н. Булгакова преподавателем в академию 82 . В.А. Кожевников не преминул заметить (15 марта 1912 г.): «Дай Бог удачи в этом! Для Академии это было бы ценное, оздоровляющее приобретение, да и самому С. Н-чу было бы, я думаю, приятно» 83 .
Судя по переписке, особым вниманием преосвященного Феодора пользовался М.А. Новоселов, ставший в начале века, во многом благодаря «Религиозно-философской библиотеке», заметной фигурой в церковнообщественных кругах обеих столиц. На праздновании десятилетия его издательской деятельности (8 ноября 1912 г., в день именин юбиляра) ректор МДА пожелал присутствовать лично, выразил «свое глубокое сочувствие» трудам и преподал архипастырское благословение. Приязнь была давней и обоюдной. В.А. Кожевников сообщал 1 октября 1907 г. Ф.Д. Самарину: «У архим. Феодора Михаил Александрович и я были после всенощной, 29-го [30 сент. / 13 окт. совершается память свт. Михаила, первого митрополита Киевского. — К.П. ]. Он благодарит за избрание его в члены [«Кружка…». — К.П. ]; беседовали о многом…» 84 . «В Соловки я не ездил, так как два главные спутника — о. Феодор и другой ректор 85 — отказались от поездки, ибо получили короткие отпуски», — извещал А.С. Глинку-Волжского 27 июля 1909 г. Новоселов 86 . В своих письмах (как правило, по-деловому кратких) он зачастую предлагает: «Дорогой отец Павел!
Если Вам не неудобно, приходите в квартиру ректора: у меня есть важное дело, о котором нужно бы с Вами поговорить в уединении. Будем здесь пить чай и обмозговывать некоторые документы» (11 июля 1911 г.); «Приходите, если можно, ‹…› пить чай в покои ректора. ‹…› Не забудьте захватить корректуру» (30 июня 1912 г.) 87 . Когда в начале февраля 1913 г. Новоселов серьезно заболел ( принимая близко к сердцу перипетии «афонского дела» «имяславцев» и готовя к изданию «Апологию веры во Имя Божие и во Имя Иисус» о. Антония (Булатовича)), еп. Феодор «усиленно звал» его к себе, «гарантируя полное выполнение предписанного режима. Это нравится М[ихаилу] А[лександрови]чу…» 88 . Священник Сергий Сидоров вспоминал, что знакомство с Новоселовым послужило ему достаточной рекомендацией в глазах владыки 89 .
Близость эта не прекратилась и в годы всеобщих перемен. Из писем М.А. Новоселова к свящ. П.А. Флоренскому известно, что на рубеже 1919–1920 гг. он, оставив квартиру в доме Ковригиной (близ Храма Христа Спасителя), где в свое время проходили заседания «Кружка…», поселился в Даниловом монастыре. «Письмо адресуйте: Москва, Данил. м-рь, кв. настоятеля», — предупреждал он о. Павла. «Положением своим в Дан. пока доволен, — чтобы не сказать больше, — несмотря на некоторые неудобства, как напр., на отсутствие отдельной комнаты. Но и “угол” дает больше, чем Ковригинская квартира, т.к. имею досуг и тишину для занятий. Конечно, ежедневно бываю в церкви, работаю и физически — разгребаю снег, иногда варю пищу…», — сообщал Новоселов в первом письме от 30 ноября (ст. ст.) 1919 г. Необходимые «занятия» были связаны с защитой «имяславия». Неустанным апологетом этого учения Михаил Александрович стал задолго до его синодального запрещения в мае 1913 г., инициированного архиепископами Антонием (Храповицким) и (в меньшей степени) Никоном (Рождественским). Продолжая труды, он обратился к о. Павлу: «Укажите в Синод. Послании и докладах м. Антония и арх. Никона самые криминальные, по Вашему убеждению, пункты. ‹…› Я усиленно занимаюсь о. Иоанном и м. Филаретом [в наследии о. Иоанна Кронштадтского и митр. Московского Фила- рета (Дроздова) Новоселов искал подтверждений спорному учению. — К.П.]. Жизнь в Дан. м-ре дает возможность много времени уделять этим утешительным занятиям»90 . Активность Новоселова была велика. В следующем письме от 14 (27) апреля 1920 г. он сетовал на медлительность корреспондента: «Ждал, ждал и до сих пор не дождался от Вас обещанной работы. ‹…› Мы здесь по-прежнему работаем над уяснением для себя и других глубокого и всеобъемлющего вопроса, в более углубленном уяснении которого должны бы помочь Вы. ‹…› Пришлите что-нибудь, что здесь переписали бы в нескольких экземплярах и распространили бы среди лиц, заинтересованных вопросом о Имени Божием. Таковые имеются и среди мирян, и среди духовенства. ‹…› О себе не пишу, т.к. писать пришлось бы слишком много, чтобы передать все пережитое за эти пять месяцев монастырской жизни»91.
В связи с этими письмами неизбежно возникает вопрос об отношении самого владыки Феодора к «новому учению», имевшему в то время как горячих сторонников, так и не менее уверенных противников. Переписка кружковцев не дает материала для развернутого ответа. Остережемся все же говорить о сочувствии ректора МДА не только богословию схимон. Илариона (автора книги «На горах Кавказа»), иеросхимон. Антония (Булатовича), но и М.А. Новоселова и свящ. П.А. Флоренского.
Интерес владыки к «имяславию», возможно, отразился в предисловии о. Павла (вышло без подписи) к изданию «Апологии веры во Имя Божие и во Имя Иисус» о. Антония (Булатовича), предпринятому М.А. Новоселовым зимой-весной 1913 г. Предваряя публикацию отзыва (так же анонимного) заслуженного проф. и почетного члена МДА М.Д. Муретова, сочувственно встретившего труд афонского иеросхимонаха, о. Павел указал, что перед нами ответ на «полуофициальный запрос ‹…› епископа» 92 .
Ранее, во многом благодаря настойчивости М.А. Новоселова, ректор академии уже имел возможность соприкоснуться с той средой, откуда вышло «имя-славское» богословие. Живя летом в Сергиевом Посаде, М.А. Новоселов пи- сал свящ. П.А. Флоренскому 25 июля 1912 г.: «Податель этого письма, схимонах Иларион ‹…› хлопочет об устройстве скита на Кавказе. ‹…› Посмотрите “Устав” и прошения пустынников — и сделайте указания. Надеюсь завтра утром по холодку прийти в Лавру, чтобы вместе с о. Иларионом побывать у еп. Фео-дора»93. Впрочем, большинство пустынников отрицательно отнеслись к инициативе собрата. Публикуя в 1915 г. свои впечатления от поездки к «гражданам неба», В.П. Свенцицкий передал общее мнение: «Начал еще старый Иларион [написавший «На горах Кавказа». — К.П.], но потом раздумал. ‹…› А тут взялся Иларион [гостивший у М.А. Новоселова. — К.П.]. Измучил нас всех, каждый месяц ходил: давай да давай подписи. Мира не стало у нас. Споры да пересуды. Пустынники и решили: пусть хлопочет, только бы в покое оставил». В Москве же ситуация представлялась, вероятно, иначе. «Теперь видим, что худо может быть, а помочь как, не знаем», — закончил собеседник В.П. Свенцицкого94.
Была у владыки Феодора возможность получать сведения о «деле» и непосредственно с Афона, где с апреля по октябрь 1913 г. находился в командировке исполнявший должность доцента по 2-й кафедре патрологии МДА иеромонах Пантелеимон (Успенский)95. Именно он писал М.А. Новоселову 20 мая 1913 г. (т.е. уже после обнародованного 18 мая определения Св. Синода о еретично-сти учения «имяславцев»): «…Я слыхал об издании Вами наряду с теми прекрасными и поистине душеспасительными для интеллигенции изданиями Р.Ф.Б. [«Религиозно-философской библиотеки». — К.П.], пользу коих я на себе испытал ‹…› какого-то произведения Булатовича…Меня это известие прямо покоробило. ‹…› Простите, дорогой М.А., я хочу пожурить Вас вот за что: почему Вы доверились собственному мнению, поторопились ‹…› и не прислушались к голосу старца патриарха96 (и покойного патр. Иоакима97), к голосу Синода и, наконец, к голосу Св. Церкви98? ‹…› Имея возможность писать Вам об этом без конца, я крайне дорожу временем, поэтому я убедительно просил бы Вас прочесть мои письма к преосв. Феодору»99.
На ректора МДА, уже в силу одного его положения, эти «голоса» должны были произвести впечатление, сходное с высказанным о. Пантелеимоном. Не стоит забывать, что едва ли не самую непримиримую «антиимяславскую» позицию занимал архиепископ Антоний (Храповицкий), не скрывавший расположения к своему ученику и постриженику.
Стоит обратить внимание и на то, что в редактируемом свящ. П.А. Флоренским академическом журнале никакие материалы, ни «за», ни «против» «имяславия», так и не появились, хотя, например, М.А. Новоселов предлагал к публикации полученные от о. Антония (Булатовича) документы 100 . Думается, здесь сказались позиция ректора вкупе с осторожностью и богословской аккуратностью самого редактора, не хотевшего «раздувать страсти». А в том, что споры не дают иного результата, он убедился довольно быстро.
Воспоминания наместника Чудова монастыря архим. Арсения (Жаданов-ского), участника суда над вывезенными с Афона «имяславцами», проведенного в 1914 г. силами Московской синодальной конторы и местных архиереев (в том числе ректора МДА еп. Волоколамского), рисуют малопривлекательные образы вожаков движения: «Чувствовалось, что афонские иноки в своем сердце давно уже произнесли суд не только над собравшимися здесь иерархами, но, как впоследствии и оказалось, и над Святейшим Синодом. И нужно было видеть, с одной стороны — спокойное, кроткое обращение с афонскими иноками всех членов присутствия, а с другой — волнение афонских иноков, чтобы убедиться, кем руководит благодать Св. Духа»101.
Мистический приговор событиям на Св. Горе записал в 1921 г. еп. Варнава (Беляев), в академическую пору входивший в ближайшее окружение ректора. В рассказе об одном человеке, против воли постоянно осаждаемом бесами, есть эпизод: «Но вот однажды они скрылись и не являлись месяца два-три. Когда они явились и он спросил их, где они были, то они ему отвечали: — Ну, Петруха, уж и натворили мы смуты…Слетелись мы все на Афон и там такую кашу заварили, что и не расхлебаешь, — и рассказали ему в подробностях возмущения имябож-ников. Это было до прихода всякой вести об этом событии в Лысково [где жил герой. — К.П. ], а подробности таковы, что после сделались притчей во языцех. У нас старались и стараются воскресить эту ересь. И кто же? Считающиеся ученейшими богословами…И чем обольщают, на что ссылаются? Говорят, якобы потому Господь теперь не принимает нашего покаяния, что мы — вернее, наша иерархия, Синод — отвергли “истинное” учение об имени Христа, нанеся Ему Самому этим тяжкое оскорбление. ‹…› Бесы у Петрухи, наверное, теперь радуются» 102 .
Отметим еще, что в письме В.А. Кожевникова Ф.Д. Самарину от 22 февраля 1913 г., объясняющем отношение большинства авторитетных членов «Кружка…» к спору, имя владыки не названо. «Как бы ни казалась по первому взгляду опасна формула, отождествляющая имя Христово с энергиею Его сущности, — при более углубленном рассмотрении вопроса приходиться признать, что противоположное этому убеждение поведет к опаснейшим следствиям относительно учения о таинствах, об иконах и молитве: рационалистический уклон в индивидуально-протестантском духе будет тогда неизбежен. Вот почему мы здесь (т.е. Мих[аил] Ал[ександрович], Булгаков, Флоренский, Ф[едор] К[онстантинович] Андреев и я) держим сторону “имеславия” против “имебор-чества”»103. По прошествии месяца со времени выноса синодального решения, 18 июня 1913 г., он вновь писал Ф.Д. Самарину: «Синодское определение с до- кладами, к нему относящимися, Сергей Николаевич [Булгаков. — К.П.] и я читали. В докладах есть немало кое-чего дельного; но они далеко не равноценны, как по содержанию, так и по тону. Антониев совсем плох. ‹…› Я совершенно с Вами согласен в том, что не следовало раньше, не следует и впредь раздувать раздоров и споров по вопросу, не выясненному дружным церковным сознанием и не решенному раньше категорически. ‹…› Что-то форсированное и, словно, непроизвольное сказывается во всей истории этого злополучного спора!.. В газете было, будто Синод дважды запрашивал епископа Феофана о его отношении к Булатовичу и к “учению об имени Иисуса”104, грозя якобы ссылкою на Афон, и что Феофан ответил будто бы уклончиво о существе дела, но отказался от солидарности с учением Булатовича. Епископ же Феодор сообщает мне, что преосвященный Антоний Волынский пишет ему, что еп. Феофан вполне отрекся от того, что говорил нам по этому поводу при свидании с нами в Москве105. Не знаю, что именно верно в газетных сообщениях и сведениях письменных?.. В итоге же все это печально…‹…› Утешительно, наоборот, что слух о переводе еп. Феодора в Петербургскую академию106 не оправдался: он пишет мне, что остается в Московской, чему он очень рад, и я также»107. Опасение В.А. Кожевникова, — «боюсь, что не все смолкнут и после заграждения уст Синодом!», — высказанное в том же письме, не замедлило подтвердиться. К концу года, 20 декабря, М.А. Новоселов запрашивал свящ. П.А. Флоренского: получил ли он второе издание «Материалов к спору о почитании Имени Божия», сообщая, что послал книги также еп. Феодору и М.Д. Муретову108.
Думается, «имяславской» активностью М.А. Новоселова, всерьез беспокоившей о. Павла109, можно попытаться объяснить намек на недобросовестность Михаила Александровича в отношении еп. Феодора. Впрочем, цитируемое письмо — одна из самых жестких характеристик «Кружка…». Раздосадованный неприятием своей работы «Около Хомякова»110, на страницах которой скрыто полемизировал с М.А. Новоселовым по вопросу об авторитете в Церкви, с Ф.Д. Самариным о понимании Таинств и др.111, свящ. П.А. Флоренский писал С.Н. Булгакову 12 декабря 1916 г.: «М<ихаилу> А<лександровичу> я неоднократно говорил, как противлюсь я миссионерским расчетам, соображениям о “ свое” и “не свое” — временности высказываний, вообще о выгодности или невыгодности…То, что мне рассказывал о. Иларион о Вашем суде потому меня и уязвило, что я отлично понимаю устроенность всего этого; когда нужно осудить С<ергея> Н<иколаеви>ча [адресата письма. — К.П.], тогда ищется один подбор друзей, когда кого другого — другой. ‹…› Одни дела делаются с ректором против кого-ни<будь>, другие с кем-ниб<удь> против него. ‹…› И неоднократно я указывал М<ихаилу> А<лександрови>чу сомнительность в мо- их глазах его, их попытки образовать что-то вроде ecclesiam in ecclesia [церковь в церкви (лат.). — К.П.] — какой-то не то орден, не то организацию — что-то подпольное и вместе игнорирующее или точнее глядящее мимо, куда-то вкось от законной власти и законной церковной организации. ‹…› Но мне думается, что мало-помалу, с каждым годом определеннее, свободное общение, аскетика и мистика, у М<ихаила> А<лександрови>ча отступают на второй план, и выдвигаются стороны миссионерства, апологетики, привлечения, пресечения. ‹…› Пред любым городовым я покорен, — не за страх, а за совесть. Но пред “московскими славянофилами” я могу стоять как один пред одним, а не пред какой-то партией, за которой не признаю ни права коллективного суда, ни права коллективного увещания, хотя все это признаю за каждым врозь»112.
Впрочем, приведенные строки не единственное свидетельство тому, что автору иной раз было «тесно» в «Кружке…». С.Н. Булгаков вслед за сравнением (в письме о. Павлу от 23–24 февраля 1914 г.) еп. Феодора с «классной дамой» в отношении не в меру расшалившейся пансионерки А.Н. Шмидт, ревниво упоминает о Б.Н. Бугаеве (А. Белом), «с которым Вы теперь неожиданно вступили в любовную переписку, включающую род литературно-карательной экспедиции против “москвичей”…» 113 .
Однако и Ф.Д. Самарин позволил себе как будто легкое сожаление, когда писал свящ. П.А. Флоренскому весной 1915 г.: «Мы испрашиваем “соединения веры”, как благодатного дара свыше, но, конечно, и сами должны трудиться по мере сил над достижением этой великой и святой цели; иначе суетна наша молитва. ‹…› Меня лично ‹…› недоговоренность и неясность между близкими людьми всегда тяготила, и в этом заключалась главная причина, почему мне казалось полезным учреждение того кружка, который сплачивается около Мих. А. Новоселова. К сожалению, намеченная мною задача была вскоре подменена другими, не менее, может быть важными и почтенными, но не столь отвечающими моей душевной потребности. Был бы счастлив, если б Вы дали толчок возрождению деятельности кружка в первоначальном направлении» 114 .
В свою очередь, председатель Московского РФО памяти Вл. Соловьева Г.А. Рачинский делился с М.К. Морозовой беспокойством о секретаре общества (24 июля 1915 г.): «…боюсь влияния на него Самарина и Новоселовского кружка, вкупе с епископами и черносотенным духовенством. В Самарине, Новоселове и их друзьях очень много хорошего, и я не без пользы для себя бываю в их обществе; но Дурылин склонен брать от них не это глубокое и доброе, а полемический задор и миссионерскую манеру видеть в чужих верованиях только черное и без критики превозносить свое» 115 .
Все же, читая Рачинского, Самарина, равно как и письмо свящ. П.А. Флоренского, необходимо держать в голове другие строки, наиболее близкие самой идее «Кружка ищущих христианского просвещения», осуществлению которой был причастен и епископ Феодор (Поздеевский), — стремлению «в малом» прикоснуться к «великому». Знакомясь с письмом о. Павла В.В. Розанову от 7 июня 1913 г. (только-только миновала критическая для «Кружка…» весна того года), удивляешься безмятежному тону не меньше, чем продуманности гармонии. «Конечно, московская “церковная дружба” есть лучшее, что есть у нас, и в дружбе этой полная coincidentia oppositorum [совпадение противоположностей (лат.) — К.П.]. Все свободны, и все связаны; все по-своему, и все — “как другие”. Вы пишите о “новом” в богословии, что внесено нами; но к перечисленным Вами лицам не забудьте добавить Новоселова и Булгакова, Самарина и др., не выступающих в литературе, но мыслящих оригинально и соучаствующих в общей работе разговорами, советами, дружбой, книгами и т.д. Весь смысл московского движения в том, что для нас смысл жизни вовсе не в литературном запечатлении своих воззрений, а в непосредственности личных связей. Мы не пишем, а говорим, и даже не говорим, а скорее общаемся. Мы переписываемся, беседуем, пьем чай; Новоселов ради одной запятой в корректуре приезжает посоветоваться в Посад, или вызывает к себе в Москву. Но это не флоберовские запятые, да удивляется им потомство, а искание поводов к общению. Вас удивляет отсутствие зависти. Но ведь у нас друг к другу не может быть зависти, ибо почти все работается сообща и лишь наибольшая часть работы в том или другом случае падает на того или другого. Дело другого, скажем Новосе- лова, Булгакова, Андреева, Цветкова116 и т.д. и т.д., для меня и для каждого из нас — не чужое дело, не дело соперника, которое “чем хуже — тем лучше”, а мое дело, отчасти и мое»117.
Справедливость этих слов свящ. П.А. Флоренского подтверждается историей его магистерской защиты, прошедшей 19 мая 1914 г. с большим успехом — при единогласном одобрении академическим Советом и «шумной овации» переполненного актового зала. Еще в начале февраля В.А. Кожевников предупреждал диссертанта: «На диспут Ваш собирается чуть не вся философствующая Москва» 118 . Интерес особенно вырос с выходом в конце 1913 г. книги «Столп и утверждение Истины. Опыт православной Феодицеи в двенадцати письмах свящ. Павла Флоренского» 119 . Читательскую реакцию зафиксировал и обдумал внимательный к младшему другу В.В. Розанов: «В высшей степени все “слава Богу”, что “Столп” так разошелся. Ведь это такой успех — первый у славянофилов. Все “тащилось”, а не шло; все “в глотку не лезло” и приходилось пропирать через горло публике, как подавившемуся. Вот судьба “православия, самодержавия и народности”. И я даже не думаю, чтобы кн. Трубецкой и Бердяев и Роз-в [авторы печатных откликов. — К.П. ] помогли. Нет, “само собой”, и п. ч. Вас знали и ожидали. Так я думаю. Это страшно важно » 120 .
В отличие от книги, судьба диссертации (начавшейся кандидатским сочинением 1908 г.) не была столь благоприятной. Достаточно сказать, что ее готовый вариант был представлен Совету МДА еще в апреле 1912 г. 24 мая 1913 г. свящ. П.А. Флоренский писал В.В. Розанову: «Очень м. б., что в самом скором времени мне придется уйти из Академии»121. Думается, причиной могло служить не одно только дело «имяславцев», синодальное решение по которому состоялось 18 числа. За год до того он обмолвился в письме к проф. А.И. Введенскому (учителю, предшественнику по кафедре, скончавшемуся 23 февраля 1913 г.): тяготит «какая-то неопределенность Академии и по ее Уставу, и по ее составу: никак не можешь выяснить себе, какова, собственно, задача Академии и что именно надо делать»122. А 7 ноября 1913 г. откровенно писал ректору, по своему желанию ставшему официальным рецензентом: «Я хорошо понимаю и чувствую, что своей диссертацией поставил Вас, дорогой Владыко, в положение неловкое и весьма смущался и смущаюсь этим. Вы не знаете, что же, собственно, надо делать со мною, и это вовсе не по недоброжелательному отношению, а несмотря на прямое желание сделать все наилучшим образом». Догматизм формальных требований ведет к тому, что «люди, отрицающие не только положения Православия, но и Самого Христа, прямо или косвенно, но соблюдающие при этом известный семинарский этикет, благополучны, а другие, нарушившие этикет, или, точнее, живущие по этикету иной среды, хотя и искренно признают церковность, на каком-то подозрении. ‹…› Но если другие не понимают, то Вы-то, Владыко, понимаете разницу между послушанием и подхалимством»123.
В каком направлении развивались дальнейшие события видно из письма В.А. Кожевникова (21 янв. 1914 г.): «Вчера был у меня еп. Феодор и говорил, что находит нужным, чтобы Вы еще кое-что выпустили в Вашей книге (для диспута). Это меня встревожило. Лично он отлично к Вам настроен, но, видимо, побаивается синодалов; упоминал, по крайней мере (и с порицанием) об Ост-роумове» 124 . Сам владыка, советуя прибегнуть к правке, не скрыл от автора, «что даже просвещеннейшие иерархи — члены Синода, от которых можно было ожидать беспристрастия и широты воззрений, смотрят на Вашу книгу косо» (28 янв. 1914 г.). Называя подозрительные с официальной точки зрения места текста, ректор указал: «Безусловно, нужно замазать типографской краской слова ‹…› “имя Христово есть мистическая Церковь!”» 125 .
Исчерпывающее объяснение дал сам свящ. П.А. Флоренский, отвечая 20 окт. 1917 г. редактору «Православной богословской энциклопедии» проф. СПбДА Н.Н. Глубоковскому: «О диссертации своей ‹…› я хотел бы сказать лишь, ‹…› что ‹…› в угоду кому бы то ни было, не писал ни одной запятой. Но кое-чем, существенно важным, ‹…› пришлось поступиться, не потому, что боялся Св. Синода, а потому что я не был в нравственном праве требовать синодской санкции тем статьям своей книги, которые казались моему рецензенту недостаточными таковой»126 . «Я не позволю стеснять своей совести и своей мысли никому, но потому не хочу насиловать и чужой совести и чужого разумения, хотя бы они и казались мне карикатурными»127. (Действительно, В.В. Розанов отметил особый настрой труда и автора: «…мне нравится более всего его “дружба к человечеству” ‹…› Книга совершенно лишена полемики. Она собирает только положительные цветы, не вырывая ничего сорного»128). «Опущены, во-первых, лирические места. В моем понимании эти места были не “украшением”, ‹…› а методологическими прологами соответственных глав. ‹…› Далее, опущен ряд глав-писем, представляющих собой философско-богословскую цель книги. И это сделано не без боли»129. Среди последних «Дружба» и «Ревность», позволившие (первоначально выходили отдельными статьями) В.В. Розанову заявить (4 июня 1913 г.): «Вы знаете, что почти ‹…› нет связанности между людьми, нет вообще никаких отношений. ‹…› Поэтому велики Ваши темы “О Дружбе”, “О любви”, “Письма к Другу”, и т. д. Это — новая полоса в богословии, это совсем другой тон», для которого более всего характерна «богословская теплота». «Отсюда и так драгоценна нетронутость дружбы, связывающей всех “славянофилов” в новый улей»130.
Предзащитные тревоги не помешали вл. Феодору выступить с обстоятельным, в высшей степени хвалебным отзывом на работу о. Павла. Опубликованный в майском номере «Богословского вестника», дан он был, разумеется, до присвоения автору ученой степени и утверждения в ней Св. Синодом. Оценки епи- скопа встретили полное сочувствие В.В. Розанова, откликнувшегося 15 июня: «Ну, мой “дорогой и славный”: кажется, о. Феодор не изменил себе и показал себя таким, каким Вы ожидали его видеть в годы дружбы до наступления “дней смутных и страха”131. Спасибо ему. Я за него порадовался, читая рецензию. Она очень поучительна и для каждого, “во дворе стоящего”132. Кроме того, язык и пр. показывают его добрым и ясным человеком без кривизны в душе. Вообще я очень со своей стороны удовлетворен»133. Что, понятно, никак не влияло на официальный ход дела. Синодальный рецензент архиепископ Харьковский Антоний (Храповицкий) высказался 9 августа, телеграфировав ректору: «Прочитал 136 страниц книги134 Флоренского. Можно дать одобрительный отзыв»135.
Вряд ли владыка Антоний разделил таким образом восторги В.В. Розанова. Более 40 лет прошло со времени защиты о. Павла, а еп. Варнава (Беляев) отметил в записной книжке (1957 г.): «Когда шел вопрос о “Столпе” ‹…› достоин ли он, чтобы за него дать степень магистра богословия автору, ректор Академии, е[пископ] Ф[еодор], ‹…› запросил в частном письме митрополита136 Антония (Храповицкого), считавшегося самым умным среди архиереев и монахов того времени, что он думает на этот счет. Тот ему отписал, что вся эта работа Фл[оренского] и его мысль — чистая хлыстовщина! ‹…› Это мне лично сам епископ Феодор говорил137»138 . С.А. Волков, студент академии революционного времени, передал со слов проректора архим. Илариона (Троицкого) (1919 г.), как «знаменитый в те годы ученый архиепископ Антоний (Храповицкий) ото- звался о работе» о. Павла: «Или я уже ничего больше не смыслю в философии, или это просто хлыстовский бред!». Рассказав, архимандрит добавил, что «готов согласиться только с первой половиной…суждения»139.
Так или иначе, слова архиепископа не были эмоциональной отговоркой, диагноз представлялся вполне актуальным. «К сожалению, наше время есть время исключительного увлечения хлыстовством и русского народа, и русского об-щества» 140 — один из рефренов знаменитого владыки.
Докладывая Св. Синоду об «имяславии», архиеп. Антоний подчеркивал: «новому лжеучению» свойственны «хлыстовские воззрения, по коим слова, магические действия в отрешении от веры и добродетели, приближают нас к Бо-жеству» 141 . А в письме самому о. Павлу, хорошо знавшему этот доклад, указал (13 дек. 1915 г.): «Не скрою, что несколько смущаюсь Вашим мистицизмом ‹…› Не числа и имена, а движения нравственной воли приближают нас к Богу, и да отыдет от нас Вл. Соловьев с его каббалистикой» 142 . Деликатность формулировки смысла не меняла: «имяславие», «хлыстовщина» и богословие свящ. П.А. Флоренского типически сходны. Вероятно, вл. Антоний говорил о диссертации. «Должен признаться, что статьи Ваши знаю больше по заглавиям, чем по содержанию: наша жизнь лишает нас возможности читать много», — откровенно заметил он в марте 1910 г. 143
Вклад еп. Феодора в успех свящ. П.А. Флоренского был значителен и очевиден. С особым, вероятно, чувством писал вл. Антоний спустя месяц после удаления из МДА своего ученика и постриженика (1 июня 1917 г.) 147 : «Всечестный батюшка о. Павел!.. Господь да вознаградит Вас за благородство в отношении к преосвященному Феодору» 148 . А «Всероссийский церковнообщественный вестник», перечисляя в апреле 1917 г. факты ректорского произвола еп. Волоколамского, не забыл упомянуть, что «замечательно интересная книга Флоренского содержала в себе с официально церковной точки зрения не мало сомнительных пунктов. Но еп. Феодор, благоволивший Флоренскому, отнесся к его сочинению с полной терпимостью и даже позволил искусственно его урезать для подачи в Совет, лишь бы не вызвать никаких трений в Синоде» 149 .
Обличительный задор «церковно-общественного» органа оказался гораздо требовательнее недавнего «официоза». Характеристике которого служит дневниковая запись свящ. Павла, вызванная откликом архим. Никанора (Куд-рявцева)150 на книгу «Столп и утверждение Истины»151: «Об этой выходке его против меня я слышал ранее смутно, причем слух шел от преосв. ректора. ‹…› О. Иларион [(Троицкий), инспектор академии. — К.П.] говорил мне, что эта критика побывала в разных редакциях, но везде терпела отказ; между прочим, и печатание ее в “Вере и разуме”152 отклонил архиепископ Харьковский Антоний. Этот последний много наговаривал на меня устно; но вот уже второй раз он оказывает мне покровительство»153, нев последнюю очередь благодаря доверию еп. Феодора. Искреннее сочувствие, единомыслие и единодушие в тяжелых условиях академической жизни предреволюционной поры ценились особенно высоко.
Один из уровней запутанного конфликта проанализирован о. Павлом в известном письме В.В. Розанову от 7 июня 1913 г.: «Самые лекции, которые читаю я, семестровые и кандидатские сочинения, которые даю писать студентам…— все это очень утомляет, ибо это не просто учительство, а непрерывная борьба ; мне ведь приходится не просто созидать, а все время разрушать позитивистиче-ские настроения. То же — у Булгакова, у Новоселова, у всех нас 154 . И вот, хотя и редко-редко (по неск. человек на курс) одерживаешь настоящую победу, однако чувствуешь, что всех ранил , и что впредь им придется все же задуматься, а, при случае, когда Бог посетит несчастием, — и принять кое-что в сердце. Но, Вы понимаете, это вечное военное положение требует много сил» 155 . Эти слова вполне могли принадлежать ректору.
Главной проблемой стали в корне различные представления о самой академии. Бóльшая часть преподавательской корпорации, лелея идею широкой автономии — основанное на выборном начале самоуправление, научнообразовательный процесс вне церковно-административного контроля, представлявшегося неоправданно жестким, — апеллировала к Уставу 1869 г. и Временным правилам 1905 г. В то время как академическому руководству, по своему положению связанному с синодальной средой, являвшемуся частью иерархии, основным назначением школы виделась подготовка пастырства, способного противостоять антицерковным вызовам времени. Заостренно-критическая методология первых156, стремившихся к научной истине, коей думалось слу- жить родной Церкви, встречала призыв к опытному постижению духовных сокровищ Св. Писания и святоотеческой мудрости. Священный сан для преподавателей казался естественным, равно как и студенческие постриги. Фигура вл. Антония (Храповицкого) более всех олицетворяла это направление, встречавшее самые противоречивые оценки. Так, близкий и обязанный ректору МДА свящ. Павел Флоренский, правда, в ответ на «имяборческое» торжество Св. Синода, писал В.В. Розанову (26 мая 1913 г.): «Не из-за этой истории я считаю его злым гением нашей церковной жизни ‹…› Его основная мысль — растлить церковную жизнь (остатки ее) и забрать полноту власти всяческой при помощи иезуитски-подобранного ордена ученых монахов ‹…› Нам, в Академии видно много таких мелочей, которые выявляют душу “антонианства” и которых в ином месте нигде не увидишь. Спросите любого академика, и он Вам расскажет, — хоть для примера Андреева, который не только не в оппозиции, но даже ректорский любимец и “питомец”»157. На усиление в жизни академий церковноадминистративной составляющей были направлены Устав 1910 г. с принятыми в следующем году изменениями. Общее положение чрезвычайно осложнялось тем, что в ситуации начала века противостояние непременно обретало политический контекст: «прогрессивная» профессура в оппозиции «реакционерам»-церковникам. Разумеется, не осталось в стороне и студенчество — мечта о самоуправлении увлекала своим популизмом многих.
«Зрея» в значительной мере «под спудом», с кардинальными переменами Февраля накопившиеся вопросы зазвучали во всеуслышание, доводя непонимание до степени катастрофической. Так было в Московской академии. Новый обер-прокурор В.Н. Львов (когда-то вольнослушатель МДА) в ответ на студенческую петицию, первым требованием которой стояло удаление ректора, назначил ревизию академии. 13 марта прошли заседания преподавательской корпорации: «Из речей профессоров вылился тяжелый обвинительный акт против ректора академии епископа Феодора»158. Вслед за отъездом ревизора проф. ПгДА Б.В. Титлинова159 вечером 14 числа состоялось еще одно собрание. Об одном из этих заседаний свящ. П.А. Флоренский рассказал М.А. Новоселову: «Пошел ‹…› и попал в такое хамство, что счел своим долгом уйти, хлопнув дверью. ‹…› В общем же знаю, что после меня вскоре же ушел Петр Вас. Нечаев160 ‹…› из-за инсинуаций на ректора. Студенты, кстати сказать, или лучше сказать неизвестно откуда взявшийся “Совет” студентов, бесподписно представил Тарееву161 петицию о немедленном удалении ректора и об аресте его. ‹…› Вся клика спекулирует на недобросовестно сфабрикованной клевете, якобы ректор организует какие-то реакционные силы в политике и т.п. вздорах»162. Техника возникновения этих обвинений была хорошо известна свящ. Павлу и описана еще в 1906 г.: «Среди товарищей завелась компания, которая поставила себе какие-то таинственные цели и добивается их всяческими средствами, не исключая и иезуитских. ‹…› Эта самая компания упорно желает вовлечь Академию в политическую борьбу, да еще ‹…› под флагом определенной партии. Мне противна всякая партия в политике, а тем более противно внесение политических раздоров во внутреннюю жизнь Академии. Я стараюсь отклонить от Академии подобные задачи, и так же Серг<ей> Сем<енович>163. А в результате появляются слухи, будто мы именно создаем какую-то политическую партию в Академ<ии>, тогда как мы просто хотим быть христианами и заниматься своим делом»164. Спустя 11 лет пришлось делать категоричный вывод: «…мысль о закрытии Академии должна быть теперь же поставлена ребром. Современная Академия не нужна ни политическим радикалам, – - ибо наши лжерадикалы ‹…› при ветре настоящей реформы жизни пугаются и вопят о спасении своих воротничков и диссертаций, — ни людям церковным, ибо только разрушают веру, и ничего не создают. Чем более свободы, тем хуже для них, ибо свобода их обличает, обличает их бессилие, религиозную пустоту; им нечего сказать — вот они и занимаются клеветою. Вся их автономия сводится к личной мести ректору за то, что он не давал орденов Туницкому, выгнал Виноградова, с чем-то приставал к Тарееву и Попову»165.
11 апреля откликнулся из Петрограда В.В. Розанов: «Слышал о Титлинове и “радости о сем Тареева”. Если помнит меня о. Федор (ему я писал) — передали бы от меня поклон. Ему “не подобает” ни гнуться, ни сгибаться: а “стоять прямо”…» 166 . Будто по слову Василия Васильевича († 5 февраля 1919 г. в Сергиевом Посаде), началась новая страда в жизни бывшего ректора МДА. «Еп<ископ> Феодор и м<итрополит> Кирилл 167 все еще в узах. На днях был у них. Слава Богу, здоровы и бодры», — сообщал М.А. Новоселов А.С. Глинке 5 ноября 1921 г. 168 Сбылось, и продолжало сбываться молитвенное пророчество Михаила Александровича, записанное 27 июля 1909 г.: «У меня такое чувство, что жизнь идет усиленным темпом…И ни политическая экономия, ни союзы и собрания, ни Дума, ни свидания монархов — ничто не спасет от грядущего всеобщего крушения. Нельзя остановить или направить по своему усмотрению сил, уже приведенных в действие и впущенных в гущу человечества. Жутко становится в Божием мире, и одно остается: “Господи! Утверди нас на камени исповедания Твоего!”» 169 .
Список литературы Епископ Феодор (Поздеевский) и «Кружок ищущих христианского просвещения»: по переписке участников
- Андроник (Трубачев), игум. Священник Павел Флоренский -профессор Московской духовной академии и редактор «Богословского вестника»//Богословские труды. Вып. 28. М., 1987. С. 290-314.
- Архив священника Павла Александровича Флоренского. Вып. 2. Переписка с М.А. Новоселовым. Томск, 1998.
- Благодарю Бога моего. Воспоминания Веры Тимофеевны и Натальи Александровны Верховцевых. М., 2008.
- Булгаков С.Н. Мое рукоположение (24 года)//С.Н. Булгаков: pro et contra. Личность и творчество Булгакова в оценке русских мыслителей и исследователей. Т. 1. СПб., 2003. С. 103-111.
- Булгаков С.Н. Пять лет (1917-1922)//С.Н. Булгаков: pro et contra… С. 84-103.
- Варнава (Беляев), еп. «Дядя Коля» против… Записные книжки епископа Варнавы (Беляева). 1950-1960. Н. Новгород, 2010.
- Варнава (Беляев), еп. Пути Промысла Божия. М., 2009.
- Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках С.А. Аскольдова, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Е.Н. Трубецкого, В.Ф. Эрна и др. М., 1997.
- Волков С.А. П.А. Флоренский//П.А. Флоренский: pro et contra. Личность и творчество Павла Флоренского в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб., 2001. С. 141-161.
- Воронцова И.В. Русская религиозно-философская мысль в начале ХХ века. М., 2008.
- Воспоминания об Андрее Белом. М., 1995.
- Голубцов С.А., протод. Московская духовная академия в революционную эпоху. Академия в социальном движении и служении в начале ХХ века. М., 1999.
- Дневник Л.А. Тихомирова. 1915-1917 гг. М., 2008.
- Дубинин А., свящ. Переписка В.А. Кожевникова с Ф.Д. Самариным и деятельность Кружка ищущих христианского просвещения//Богословские труды. Вып. 40. М., 2005. С. 274-288.
- Дурылин С.Н. В своем углу. М., 2006.
- Записки священника Сергия Сидорова, с приложением его жизнеописания, составленного дочерью, В.С. Бобринской. М., 1999.
- Иларион (Алфеев), митр. Священная тайна Церкви: Введение в историю и проблематику имяславских споров. СПб., 2007.
- Киреев А.А. Дневник. 1905-1910. М., 2010.
- Колеров М.А. «Не мир, но меч». Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех». 1902-1909. СПб., 1996.
- Лавров В.М., Лобанов В.В., Лобанова И.В., Мазырин А.В. Иерархия Русской Православной Церкви, патриаршество и государство в революционную эпоху. М., 2008.
- Лосев А.Ф. «Я сослан в ХХ век…». Т. 2. М., 2002.
- Никитина И.В., Половинкин С.М. «Московский авва»//Архив священника Павла Александровича Флоренского. Вып. 2. Переписка с М.А. Новоселовым. Томск, 1998. С. 9-38.
- Ореханов Г., свящ. На пути к Собору. Церковные реформы и первая русская революция. М., 2002.
- «Остаюсь Ваш доброжелатель и богомолец…» К истории взаимоотношений священника Павла Флоренского и митрополита Антония (Храповицкого)//Журнал Московской Патриархии. 1998. №6. С. 67-80.
- Павел Флоренский и символисты: Опыты литературные. Статьи. Переписка. М., 2004.
- Переписка П.А. Флоренского и В.А. Кожевникова//Вопросы философии. 1991. №6. С. 85-151.
- Переписка священника Павла Александровича Флоренского со священником Сергием Николаевичем Булгаковым. Томск, 2001.
- Переписка Ф.Д. Самарина и священника П.А. Флоренского//Вестник РХД. 1978. №125. С. 251-271.
- Письма В.А. Кожевникова В.В. Розанову//Вестник РХД. 1984. №143.С. 87-100.
- Письма В.А. Кожевникова Ф.Д. Самарину//Богословские труды. Вып. 40.М., 2005. С. 274-354.
- Половинкин С.М. Ревностная дружба//Переписка священника Павла Александровича Флоренского со священником Сергием Николаевичем Булгаковым. Томск, 2001. С. 5-15.
- Письма С.Н. Дурылина к свящ. Павлу Флоренскому//Сергей Дурылин и его время: Исследования. Тексты. Библиография. Кн. I: Исследования.М., 2010. С. 199-208.
- Розанов В.В. Густая книга//Розанов В.В. Собрание сочинений. О писательстве и писателях. М., 1995. С. 576-585.
- Розанов В.В. Духовенство на народной службе//Розанов В.В. Собрание сочинений. В чаду войны (Статьи и очерки 1916-1918 гг.). М.-СПб., 2008.С. 212-214.
- Розанов В.В. «Мы всегда хороши»…//Розанов В.В. Собрание сочинений. Признаки времени (Статьи и очерки 1912 г.). М., 2006. С. 241-248.
- Розанов В.В. О С.Н. Булгакове//Розанов В.В. Собрание сочинений. В чаду войны… С. 361-365.
- Розанов В.В. Литературные изгнанники. Книга вторая//Розанов В.В. Собрание сочинений. М.; СПб., 2010.
- Свенцицкий В. Граждане неба. Мое путешествие к пустынникам кавказских гор. М., 2007.
- Сосуд избранный. История российских духовных школ в ранее не публиковавшихся трудах, письмах деятелей Русской Православной Церкви, а также в секретных документах руководителей советского государства. 1888-1932. СПб., 1994.
- Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. М., 2007.
- Феодор (Поздеевский), еп. «О духовной Истине. Опыт православной теодицеи» («Столп и утверждение Истины»). Книга свящ. П. Флоренского.М., 1912: рецензия//П.А. Флоренский: pro et contra. С. 209-243.
- Флоренский П.А., свящ. Избранные письма профессорам Московской духовной академии//Богословский вестник. №11-12. Сергиев Посад, 2010.С. 753-765.
- Флоренский П.А., свящ. Памяти Феодора Дмитриевича Самарина//Сочинения в 4 Т. Т. 2. М., 1996. С. 337-345.
- Царю Небесному и земному верный. Митрополит Макарий Московский, Апостол Алтайский (Парвицкий-Невский). 1835-1926. М., 1996.
- Эрн В.Ф. «И на земли мир»//Сочинения. М., 1991. С. 339-341.