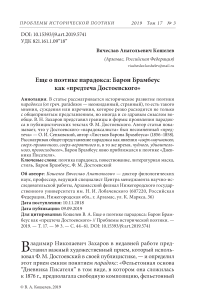Еще о поэтике парадокса: барон Брамбеус как "предтеча Достоевского"
Автор: Кошелев Вячеслав Анатольевич
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.17, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается историческое развитие поэтики парадокса (от греч. paràdoxos - неожиданный, странный), то есть такого мнения, суждения или изречения, которое резко расходится не только с общепринятым представлением, но иногда и со здравым смыслом вообще. В. Н. Захаров представил границы и формы проявления парадокса в публицистических текстах Ф. М. Достоевского. Автор статьи показывает, что у Достоевского-«парадоксалиста» был несомненный «предтеча» - О. И. Сенковский, автор «Листков Барона Брамбеуса» (1856-1858). Рассматривая общее представление парадокса как явления « сверх-научаемого, сверх-привычного, сверх-вероятного и, в то же время, чудного, удивительного, превосходного », Барон Брамбеус явно приближался к поэтике «Дневника Писателя».
Поэтика парадокса, повествование, литературная маска, стиль, барон брамбеус, ф. м. достоевский
Короткий адрес: https://sciup.org/147226217
IDR: 147226217 | УДК: 82.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2019.5741
Текст научной статьи Еще о поэтике парадокса: барон Брамбеус как "предтеча Достоевского"
Владимир Николаевич Захаров в недавней работе представил важный художественный прием, который использовал Ф. М. Достоевский в своей публицистике, — и определил этот прием емким понятием парадокс: «Фельетонная основа “Дневника Писателя” в том виде, в котором она сложилась к 1876 г., предполагала свободную композицию, фельетонный стиль, романизацию факта, установку на диалог автора и читателя, учительство и проповедь в системе отношений “pro et contra”» [Захаров: 195]. Эти особенности и определили «поэтику парадокса».
Истоки этой поэтики исследователь предложил искать в русской классике: «Жанровые искания и открытия Достоевского стоят в ряду художественных поисков Пушкина (“Евгений Онегин”, “Table-talk”), Гоголя (“Выбранные места из переписки с друзьями”) и Ахматовой (“Поэма без героя”). Наконец, самое главное: писатель учитывал опыт Вечной Книги» [Захаров: 195]. Затем приводится ряд показательных «парадоксов» из «Дневника Писателя», в которых Достоевский предстал перед читателем не в роли сочинителя или романиста («хроникера») — а в роли Писателя.
Эти примеры привели нас к мысли, что наиболее ярким «парадоксальным образцом» для Достоевского стал в данном случае не классик первого ряда, а публицист и «парадоксалист» рангом пониже.
«Брамбеус! решительно Брамбеус! Прочел с удовольствием. Фыркал, прыскал со смеху. Пыхтел, задыхался. Потел! Игриво. Молодое перо. Талант. Каратель пороков. Упование России… Игрун, визгун, танцует. Далеко пойдет. Молодец»1 — этими словами начиналась заметка Достоевского «Молодое перо», напечатанная в 1863 г. в журнале «Время». В подстрочном примечании — уточнение: «Невинное подражание слогу барона Брамбеуса, сделанное не без цели» ( Д30 ; 20: 78). Это «невинное подражание» вроде бы должно было навести читателя на мысль о сходстве критической манеры Н. Щедрина с манерой «остроумца» Барона Брамбеуса, который по произволу мог сегодня восхвалить то, что обругал вчера… Но это довольно странно: «Брамбеус» (Осип Иванович Сенковский; 1800–1858) умер за пять лет до этой заметки (а от литературной критики отошел лет за пятнадцать) — кто в бурные 1860-е гг. еще помнил его критическую манеру?
Именно Барон Брамбеус считался признанным мастером парадокса. В некрологическом стихотворении «Над гробом О. И. Сенковского» (1858) В. Г. Бенедиктов объявил основной заслугой публициста то, что «Он блеском парадокса / Нас поражал, страдая и шутя» (курсив мой. — В. К.)2. И эти «парадоксы» были едва ли не самым первым чтением Достоевского-подростка: по свидетельству младшего брата, Андрея, отец писателя выписывал в 1834–1835 гг. журнал «Библиотека для Чтения», в котором Сенковский был редактором и автором: «Эти книги уже были исключительным достоянием братьев» [Достоевский А. М.: 71].
В сочинениях Достоевского неоднократно упоминаются показательные журнальные критические «парадоксы» «Библиотеки для Чтения». В «Селе Степанчикове и его обитателях» отмечается, что Фома Опискин «сотворил когда-то в Москве романчик, весьма похожий на те, которые стряпались там в тридцатых годах ежегодно десятками, вроде различных “Освобождений Москвы”, “Атаманов Бурь”, “Сыновей любви, или Русских в 1104-м году” и проч. и проч., романов, доставлявших в свое время приятную пищу для остроумия барона Брамбеуса» ( Д30 ; 3: 12). Сенковский действительно любил посмеяться над подобной литературной «стряпней», предлагая читателю издевательские «разборы» этих сочинений.
Неоднократно в разные годы в «Ответе “Русскому Вестнику”» (1861) и в «Дневнике Писателя» за июнь 1876 г. Достоевский отмечал, например, как в середине 1830-х гг. в «Библиотеке…» «Жорж Занд называли Егором Зандом» ( Д30 ; 19: 125), как «Сенковский, сам же и собиравшийся переводить Жорж Занда в своем журнале “Библиотека для Чтения”, начал называть ее печатно г-жой Егором Зандом и, кажется, серьезно остался доволен своим остроумием». Достоевский указывает, что ему самому тогда было «лет шестнадцать» ( Д30 ; 23: 33). Устойчиво запомнившиеся «мелочи» стиля свидетельствуют о большом впечатлении, которое они в свое время произвели на подростка.
В 1830-х гг. подобные критические выходки именовали парадоксами. Парадоксом (греч. paràdoxos — неожиданный, странный) принято называть мнение, суждение или изречение, резко расходящееся с общепринятым, а иногда и со здравым смыслом вообще3. Парадокс выглядит отрицанием традиционных представлений, кажущихся безусловно правильными, и, в зависимости от того, какими они являются, может выражать и истину, и ложь. Стремление к парадоксальным утверждениям иногда характеризовало неустойчивость общественных убеждений. Ж.-Ж. Руссо на предложенную Дижонской академией в 1749 г. тему — «Содействовало ли возрождение наук и художеств очищению нравов?» — решился ответить блестящим парадоксом: «Просвещение вредно и самая культура — ложь и преступление». Ответ Руссо, доказывавшего эту нетривиальную идею, был удостоен премии: просвещенное общество рукоплескало своему обличителю.
По своей логической структуре парадокс представляет собой весьма сложную организацию (см.: [Успенский: 159–162]): он часто встречается и в математике, и в юриспруденции. Основные жанры, эксплуатирующие принципы парадокса, — это сентенции, «максимы», афоризмы, пословицы, ораторская проза. Индивидуальность писателя зачастую формировалась парадоксом — именно он лежал в основе «игровой» литературной маски Барона Брамбеуса. При своем публичном появлении в 1833 г. (в альманахе «Новоселье» и в «Северной Пчеле») эта «маска» была «биографически» и творчески отделена от писателя Сенковского — для публики оставалось тайной: кто же этот «Брамбеус»? В гоголевском «Ревизоре» уездная дама интересуется у Хлестакова: «Скажите, так это вы были Брамбеус?» — и тот с готовностью соглашается [Гоголь: 241].
Автор «Фантастических путешествий Барона Брамбеу-са» (1833) обещал публике представить «полное описание своей жизни»:
«В первой главе описываются происшествия, случившиеся со мною в то время, когда я числился в 14-м классе. Глава вторая посвящена деяниям моим в пределах 12-го класса; третья изображает похождения мои в 10-м классе; четвертая в 9-м, пятая в 8-м и так далее. Это самое простое, ясное, перстом самой природы указываемое разделение жизнеописания смертного, но чиновного человека. Удивительно, что доселе не сказано о том ни слова ни в одной нашей риторике!»4.
Но вот парадокс: «копеечный» чиновник (губернский секретарь) «от скуки» совершает путешествия в Турцию, Италию и даже в Восточную Сибирь. При этом он свободно говорит по-французски, по-немецки, по-итальянски и даже по-турецки, читает египетские иероглифы и тибетские рукописи — и оказывается очень образованным. По словам Н. Г. Чернышевского, «писатель, известный под именем Барона Брамбеуса <…> обладал обширною начитанностью по всем отраслям знания, а по многим — и основательными познаниями» [Чернышевский: 75].
Барон Брамбеус — человек западного типа, этакий немецкий гелертер в соединении с английским денди. Но само его имя взято из русской лубочной книги. П. Савельев, ученик профессора восточных языков Сенковского, свидетельствовал, что оно родилось на занятиях по арабскому и турецкому языкам:
«Профессор упражнял своих студентов и в переводе на арабский. На лекциях турецкого языка он заставлял переводить с русского на турецкий. Текстом для этих переводов служила иногда “Сказка о Францыле Венециане”, с знаменитым ее “королем Брамбеусом ” — будущим псевдонимом ученого профессора — склад которой удобно перелагался на турецкий» [Савельев: XLIII].
При этом титул «барона» указывал на принадлежность к чему-то «нерусскому»: он отличал остзейских (прибалтийских) немцев: «барон Дельвиг», «барон Корф», «барон Розен» и т. п. «Барон Брамбеус», при выразительной аллитерации, представал для народного уха персонажем «совершенно немецким».
Впрочем, «западное» происхождение не мешало автору появляться во вполне русском обличье: в «Письме трех тверских помещиков к Барону Брамбеусу» (1837) провинциальные помещики обращаются к Барону, как на Руси принято, по имени-отчеству: «Милостивый государь, барон Степан Кириллович » (курсив мой. — В. К .) (8; 200). А для создания «восточной» экзотики (в новогодней «Литературной Летописи» 1838 г.) он может превратиться в «верного капыджи-баши» султана, обрести имя « Брамбеус-Ага-Тютюнджу-оглу-Багадур » и при этом остаться самим собой. «Ночи Пюблик-султан-багадура» завершаются фразой султана: «…с тех пор, как при моем дворе явился Брамбеус, все, решительно, стали остроумны!» (9; 317).
Своими «немецкими» повадками Барон Брамбеус приближается к образу «инфернального существа». От него, как подметил еще Н. И. Надеждин, «попахивает серой» [Надеждин: 141], он вездесущ и всеведущ:
«Я посетил четыре части света, объехал вокруг всю землю, был в Швеции и Голконде, во Франции и Камчатке, в Царьграде и Вашингтоне; видел все, чтò только есть любопытного и достойного внимания в мире, — словом, Китайцев, пирамиды и обезьян; видел голых людей и живых сельдей, кангуру и английских миссионеров; даже видел, как растет кофе, чай, сахар и ром» (2; 20).
Он запросто общается и с домовыми, и с чертями, и даже посещает «большие вечера», что устраивает Сатана.
Парадоксален и стиль повестей Барона. Неунывающий путешественник и острослов, наивный скептик и большой умница, реальный авантюрист и литературный фантом — он отражал непростое отношение к миру его автора Сенковско-го. От этого произошел литературный жанр «брамбеусианы», построенный на соединении несоединимого, на видимой поспешности, недоконченности, на «странном сближении» разных качественных признаков. Его повествование предстает то монгольской «шастрой» о переселении душ, то инфернальными «записками домового», то мистическим сеансом «превращения голов в книги, а книг в головы», то дневником покойника о сближении «любви и смерти».
Именно своей парадоксальностью баронбрамбеусовское « Я » оказалось для русской читающей публики очень привлекательным. По наблюдению В. Э. Вацуро, «читатели могли, в зависимости от уровня культуры, видеть в нем либо “настоящего” барона, либо мистификацию, оценивать лубочность “Брамбеуса” или считать это “серьезным” псевдонимом и т. д. Булгарин “учил публику”, не дифференцируя ее; Сенковский — скептик и релятивист — не рассчитывает на единое понимание, но пытается извлечь эффект из самой возможности разных пониманий» [Вацуро: 221].
Парадоксальна и историческая судьба этой литературной маски: явленная в 1833 г., она приклеилась к писателю Сенков-скому, что называется, на всю оставшуюся жизнь. Сделавшись редактором «Библиотеки для Чтения», он собирался отказаться от нее. Но издатель А. Ф. Смирдин первым делом потребовал, «чтобы первая повесть в “Библиотеке для Чтения” непременно была с подписью Барона Брамбеуса, и говорил, что от этого зависит судьба его журнала». Спорить с издателем трудно — тем более что «парадоксальные» повести Брамбеу-са сделались популярны в публике. Скрепя сердце Сенковский спешно принялся за новый парадокс — повесть «Вся женская жизнь в нескольких часах» — и, за неимением времени, работал без «сна и отдохновения» [Сенковская: 73–75].
Журнальный успех (приносивший немалый доход) надлежало подпитывать: появляются не только «парадоксальные» повести, но столь же «парадоксальные» критические статьи и «брамбеусианские» рецензии. И даже научно-популярные заметки, явленные в «энциклопедическом» журнале, оказываются похожи на наблюдения знаменитого Барона… Постепенно парадоксальная «маска» становится «знаменем» всего журнала. Десять лет спустя, в середине 1840-х гг., К. С. Аксаков так представлял это «знамя»:
«“Библиотека для чтения” — первый увесистый журнал в России — имела огромный числительный успех и до сих пор держится твердо. Она поняла, где стоит множество народа: на гуляньях, чему раздается одобрительный хохот; она поняла и осуществила на деле; и точно, около нее собирается народ, которого тешит записной остряк, готовый на какие угодно штуки, чтоб только вынудить смех, и точно, невольно смеешься. Но что проповедует, что думает “Библиотека для чтения”? — ничего не думает: она скажет вам, что думать — вздор. Что чувствует? Ничего опять не чувствует: она скажет вам, что и чувство — вздор. Какое же ее убеждение, цель? <…> У нее есть цель посмешить, и, разумеется, она недаром проделывает свои штуки и насмешки» [Аксаков: 115].
В конце жизни Сенковский, уже отошедший от журнальных дел, нашел неожиданный жанр для своих парадоксов. Весной 1856 г. стали выходить (в качестве приложения к еженедельной «политической, ученой и литературной» газете «Сын Отечества») специальные приложения, быстро увеличившие тираж новой газеты в восемь (!) раз. Автор настоял, чтобы эти фельетоны были названы просто «Листками Барона Брамбеуса». Под каждым из них красовалась подпись: «Брамбеус-Redivivus» — то есть «Брамбеус Возродившийся».
Маска Брамбеуса в этих «Листках…» представляла Писателя, весело учившего читающую публику, как приспособиться к движению времени, к новой политике и неизбежным переменам при приближении «эпохи реформ» (cм.: [Каверин: 202–208]). «Возродившийся Брамбеус» критиковал то английскую, то французскую экономическую политику, то недостатки российской «фабричности». Он, например, активно пропагандировал мнение, что в рамках международного разделения труда дело России — сельское хозяйство, но отмечал, что для развития сельского хозяйства насущно необходима развитая сеть железных дорог, которой в России нет. И даже высказывал «крамольные» идеи, отчего железных дорог мало и что нужно делать, чтобы эту сеть расширять…
«Листки Барона Брамбеуса» были собраны в отдельном издании — и оказались очень востребованы. Они поражают видимой пестротой. Чего в них только нет! Впечатления о коронации Александра II в Москве — и рассуждения о пользе парадоксов. Трактат о строительстве железных дорог в Европе, Америке и России (с приложением схем, графиков и денежных подсчетов) — и пародийное доказательство вреда отращивания бороды. Советы по организации «табачной фабрики» — и иронические суждения о музыке и музыкантах. Воспоминания о реальных путешествиях ориенталиста Сен-ковского в Турцию и поездке по Франции — и «фантастические путешествия» Барона Брамбеуса в «страну пирамид» (где он строит печи и обучается языку зверей). Специальные «листки» посвящены торговле роялями, кулинарии, реформе русского языка, опечаткам и т. п.
Но за этой пестротой ощущается не собрание разнородной «болтовни», а целостный комплекс раздумий умного собеседника, который стремится довести сложнейшие современные идеи до сознания своих ленивых современников. Достигается это единство той своеобразной композицией «Листков…», которая призвана связать в сознании читателей один высказанный
Брамбеусом парадокс с другим и представить целостную модель меняющегося мира.
В этом смысле «Листки…» прямо предшествовали «Дневнику Писателя» Достоевского. В роли Писателя в них выступил именно Брамбеус, собравшийся делиться с читателем собственным умом. При этом ум с самого начала рассматривается как товар : Писатель вкладывает его в фельетон — и получает соответствующий гонорар. Но — достойный ли это товар ? На Руси искони «добывать-то себе ума мы всегда любили на медные деньги, но зато уж продать ум — ужасть! — на вес золота продавали…»5.
Но новая эпоха наступила — и «подешевел» ум! Признаки этого радуют Писателя: «…с 1856 года, с великой эпохи великой войны и великого мира, началась история настоящая, новейшая история, которой примера не было в человечестве…» ( Листки , 1; 3). Тогда явились и сразу привились технические новинки: «…пароходы, железные дороги, электрические телеграфы», — а время и человек, «обновленные парами и электричеством», должны теперь учиться и мыслить по-новому: «…многие старые пружины и рычаги лишаются необходимо своей важности, истинной или воображаемой» ( Листки, 1; 5). Начинается, словом, видимый прогресс: движение вперед, которое, как любое движение, не проходит без потерь и культурных утрат.
Брамбеус предстал в своих «Листках…» веселым и неунывающим умницей, скептически оценившим новую Россию, которая после смерти Николая I, катастрофы Крымской войны и воцарения Александра II перешла к очередной «эпохе перемен». Прежняя система отжила свой век — а что взамен? Странным образом эти «эпохи перемен» (называвшиеся то «реформой», то «перестройкой», то «обновлением», то еще как-нибудь) стали характерным показателем бытия именно в России. Особенно тяжким бременем они легли именно на простого человека: не случайно же придумано старинное китайское проклятие: «Чтоб тебе жить в эпоху перемен!».
Человек, столкнувшийся с «эпохой перемен», озабочен прежде всего данностями материального порядка: как выжить при стремительно растущих ценах? как найти желаемую работу?
почему эти самые цены растут? как вообще формируется цена товара и оплата труда? Словом, конкретный человек поневоле обращается к науке под названием «экономика». А веселый Брамбеус (Писатель!) вызвался быть путеводителем простого человека в понимании непростых проблем и истин.
Обращение к «экономике» рождало характерные парадоксы , которые стали главными персонажами новых «Листков…». Вот — уже на первых страницах: «Мы — главные фабриканты хлеба, а белый хлеб у нас, в Петербурге и в Риге, дороже, чем в Лондоне и в Париже; такого хлеба, какой у нас продается по 4 копейки за фунт, в Париже фунт стоит обыкновенно 3 копейки (12 centimes за фунт, или 30 centimes kilogramme); в Лондоне 3 ¼ копейки. Работник наш делает менее и берет дороже…» ( Листки, 1; 12–13). Отчего это?
В пятом «листке» (датированном 5 августа 1856 г.) находим общее рассуждение о « бедном парадоксе »:
«Вы, я думаю, знаете, чтó такое парадокс ? Парадокс — это именно то, чего вы не понимаете, чтó свыше вашего разумения, никогда вам в голову не приходило, о чем вы никогда порядочно не рассудили, следуя старому навыку, общепринятому учению, или временному образу мыслей света, ученого, или неученого. <…> ПАРА значит через, сверх, а ДОКСОС значит учение, принятый образ мыслей, нечто одобряемое учителями, или нечто всем так кажущееся и общепризнанное за вероятное. Все же вместе значит оно сверх-научаемое, сверх-привычное, сверхвероятное и, в то же время, чудное, удивительное, превосходное » ( Листки, 1; 59–60) .
Парадокс оказывается едва ли не основой человеческого прогресса. Великие открытия выглядели «парадоксами». «Парадокс» Коперника: не Солнце вращается вокруг Земли, а наоборот — Земля вокруг Солнца; «Парадокс» Уильяма Гарвея, совершившего революцию в медицине, — открытие кровообращения; «Парадокс» инженера Стефенсона, придумавшего паровоз, умеющий силой пара «двигать огромные тяжести» (Листки, 1; 65). Предложенная «парадоксалистом» «компания на акциях для проложения железных полос» добилась невиданных успехов и получила громадную прибыль со своего предприятия (Листки, 1; 66). Так что поиски парадоксов — дело выгодное.
А чего стоит «чудесный, благодетельный парадокс бессмертного Пиля — свободная торговля» ( Листки , 1; 71)! Ведь парадокс отсутствия торговых пошлин сделал Англию не беднее, а значительно богаче, открыв дорогу процессу международного разделения труда. Так что к парадоксам стоит отнестись со всей серьезностью. «Беда только вот в чем: куда девать остатки парадоксов, которые еще валяются у вас в мозгу от прежней работы мысли, когда вы еще рассуждали, не общепринятым, а своим собственным умом?» ( Листки , 1; 66).
«Брамбеусиана» становится логической основой стиля заданной «болтовни»: «В последний раз пришлось нам с вами, любезнейшие друзья мои, говорить <…> o музыке. Следовательно, мы должны теперь побеседовать о кухне. Я знаю, что вы любите строгий логический порядок предметов» ( Листки , 1; 239). И дальше, подтверждая эту «строгую логику», автор приводит ряд уморительных сопоставлений действия на человеческий организм хорошей музыки — и вкусного блюда… Но тут же — масса вполне серьезных утверждений. Так, через все «Листки…» проходит тема железнодорожного строительства, столь необходимого для России. Сначала она является в виде «парадокса», оказавшегося благодетельным для английской экономики и отвергаемой нашими «умниками» вроде Н. И. Тарасенко-Отрешкова6.
Но если говорить «на полном серьезе», то «Poccии нужны не четыре, а сорок тысяч верст таких <железных> дорог, по самой меньшей мере» ( Листки , 1; 397). Автор «Листков…» приводит пример передовой страны, которая «во всех главных отношениях чрезвычайно похожа на Poccию — так же обширна и обильна, как Россия, так же редко населенная…». Это Североамериканские Соединенные Штаты, «земля скорее бедная, чем богатая, во всех других отношениях, кроме земледельческого…» ( Листки , 1; 397, 398). Но там было в короткое время и при минимальных средствах построено около 50 тысяч верст железных дорог — и страна сразу же стала богаче в несколько раз! Как такое возможно?
В. Н. Захаров отмечает, что парадокс у Достоевского «был обострением проблемы, вызовом здравому смыслу», что его парадоксы «противоречили общепринятому мнению». Но именно из этого принципа исходил в своих парадоксах Барон Брамбеус. Далее Захаров добавляет, что в «Дневнике Писателя» парадоксы «не превращаются в трюизмы», а, напротив, «создают интригу, моделируют эффект сократического диалога, рождают особый тип героя (парадоксалист) и литературную маску автора, становятся композиционным принципом объяснения заветных и сокровенных идей автора» [Захаров: 198].
Но нетрудно убедиться, что подобную же систему выявления парадоксов задолго до «Дневника Писателя» показал Брамбеус. Несколько «листков», например, прямо представлены в форме «сократического диалога»:
«Сократ, слывший первым мудрецом между своими согражданами, не давал никогда от себя ответа на вопросы любопытствующих знать его мнение о задачах и тонкостях тогдашней мудрости. Хитрый и злой вопросчик, на вопрос он отвечал вопросами, последовательными, быстрыми, безотвязными, и заставлял любопытствующих отвечать самим себе, решать задачу своим собственным умом и толком» ( Листки , 2; 437).
Подобный способ «беседы с самим собой» Брамбеус представляет «полифоническим» способом, «поворачивая человека с его умом, страстями, глупостями, добродетелями» — и каждая из «частей» человеческого «я» живет собственными интересами: Ум человеческого «я» бывает решительно не согласен и с его Скупостью, и с его Щедростью.
В. Н. Захаров указывает на то, что парадокс, представленный в качестве формы высказывания, выявляется «в таких характерных особенностях стиля Достоевского, как антиномии, алогизмы, оксюмороны, игра словами и тропами, но его парадоксы выходят за пределы острословия и остроумия» [Захаров: 198]. Однако подобные стилевые данности — тоже показательная особенность «Листков Барона Брамбеуса», особенно привлекавшая умного читателя.
Рассуждая о стиле Достоевского, В. Ф. Переверзев некогда заметил: «Само собой разумеется, что этот стиль не был только личным достоянием Достоевского, не начался и не кончился в его творчестве: с одной стороны, чертами этого стиля запечатлены произведения очень многих романистов, писавших после Достоевского, с другой стороны, романы этого стиля появились задолго до выступления Достоевского на литературной сцене» [Переверзев: 78]. Рассмотрев далее некоторые романы А. Ф. Вельтмана, исследователь объявил его литературным «предтечей Достоевского» — что, в принципе, подтвердили и позднейшие сопоставления (см., напр.: [Кошелев, Чернов]).
С гораздо большими основаниями мы можем считать Барона Брамбеуса «предтечей» фельетонного стиля Достоевского — с одним, правда, уточнением (отмеченным тем же Захаровым). Выявляя и представляя читателю «Дневника…» какой-либо парадокс, писатель предпочитал «не доводить его до конца», не произносить «последнего слова» — в отличие от своего «предтечи» [Захаров: 197]. Ведь многие наблюдения Брамбеуса как раз и являются парадоксами, безжалостно доведенными до логического конца.
Вот, к примеру, один из них, касающийся «маленького и совершенно невинного вопроса», возникшего уже в последних «Листках…»: «Книг такое множество на свете и все такие толстые и все умножаются числом и объемом: так скажите же, по милости, о чем люди пишут книги ?». Парадоксальный ответ человека, за свою жизнь прочитавшего не менее сотни тысяч книг на разных языках и подготовившего к изданию (в качестве литератора и редактора «толстого» журнала и многих других предприятий) тысячи своих и чужих книг — предстает как «скудоумный ответ»: «…книги, особенно толстые, люди пишут только о том, чего сами не понимают ! .. ». Сен-ковский ощущает видимую парадоксальность этого наблюдения — но настаивает: эта мысль «удивительно верна во всех отношениях» (курсив мой. — В. К. ) ( Листки , 1; 67 – 68).
Для доказательства парадокса достаточно, во-первых, представить, что если проблема, которой посвящена книга, понятна ее автору «во всех ее практических подробностях», — то и книгу писать не о чем:
«Дело всегда становится так просто, ясно очевидно, что довольно и двух-трех страниц для изложения его в размере, вполне достаточном для уразумения всеми вообще и каждым в особенности» ( Листки , 1; 68).
Другое дело, когда предмет представляется автору только « научно », сторонним взглядом: «О! тогда, неприметно и самому себе неведомо, наваляете огромнейшую книгу — целый том, три, четыре тома — и все еще вам кажется, что это не довольно ясно, не вполне убедительно, что оно все еще требует пополнений и пояснений. Вы уверяете себя, что предмет слишком обширен и многосложен; а, между тем, он только запутался в вашей голове <…>. И такие книги плодятся как тараканы…». В конце концов, «из такого-то книгоделия рождаются самые странные теории, которые нередко делают большой вред человечеству…» ( Листки , 1; 68–89).
Во-вторых, само по себе обилие книжных изделий, произведенных «типографическим снарядом», в конечном итоге может привести к катастрофе:
«…Самые же книги, своим необъятным множеством, в состоянии произвести, наконец, невежество, грубость, дикость, одним словом — варварство — и потребовать нового возрождения наук и искусств. Давно ли началось книгопечатание? — лет четыреста, не более! — а уже какая бездна книг! и какие жалобы на их множество! и как уже много книги потеряли из своей прежней важности и прелести, из старинного всеобщего к ним уважения! Что же будет через тысячу четыреста лет, когда число печатных сочинений достигнет биллиона! Не нужно Омаров: необходимость заставит топить книгами бани, чтобы очистить свет от хлама. Равнодушие и презрение к книгам могут произойти из самой их бесчисленности и от невозможности объять памятью литературу и даже главные её творения. В новом печатном Вавилоне, где все понятия, правила, теории перепутаются, где самые противоречащие учения сольются в одну неразглядную бездну, кто станет читать книги порядочно, систематически, полезно для ума или сердца? Книги будут истреблены книгами же. <…> Несмотря на изобретение книгопечатания, даже вследствие самого книгопечатания, свет возвратится к рукописным литературам, ежели только станет думать о литературах» (7; 119–120).
Книгопечатание не только «не спасает человека от варварства» — но и провоцирует новое «варварство»: «Кто может сказать, к чему ведут род наш нынче пары и железные дороги! Избалованные удобствами общества предадутся лени, новым страстям, неведомым направлениям. Просвещение, быть может, станет передаваться электрическими телеграфами в достаточном количестве для их потребностей. (Здесь, кажется, парадоксалист прямо предугадал появившиеся через полтораста с лишком лет Интернет и всякого рода гаджеты. — В. К.) Во всяком случае книгопечатанию угрожает большая опасность от самих же его последствий. <…> Острое слово, удачное изустное изречение облетает свет с удивительною быстротою: то же самое, будучи напечатано, уже никем не повторяется потому только, что оно стало всякому доступно и может быть известно детям. Печать лишает литературу половины эффекта» (7; 120–121).
Последний парадокс, который занимал мысли замечательного «деятеля книги» О. И. Сенковского, приводил к тому «правилу», какое высказал грибоедовский персонаж, книг принципиально не читавший: «Уж коли зло пресечь: Забрать все книги бы, да сжечь!». Барон Брамбеус, правда, в отличие от Фамусова, настаивает на том, что это — не более чем парадокс .
А ну как — святая истина?
Список литературы Еще о поэтике парадокса: барон Брамбеус как "предтеча Достоевского"
- Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. - М.: Искусство, 1995. - 525 с.
- Вацуро В. Э. От бытописания - к поэзии действительности // Русская повесть XIX века: история и проблематика жанра. - Л., 1973. - С. 200-223.
- Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 9 т. / сост. и коммент. В. А. Воропаева, И. А. Виноградова. - М.: Рус. книга, 1994. - Т. 3/4. - 557 с.
- Достоевский А. М. Воспоминания / вступ. статья, подгот. текста и примеч. С. В. Белова. - СПб.: Андреев и сыновья, 1992. - 393 с.
- Захаров В. Н. Поэтика парадокса в «Дневнике писателя» Достоевского // Захаров В. Н. Проблемы исторической поэтики: этнологические аспекты. - М.: Индрик, 2012. - С. 195-204.
- Каверин В. Барон Брамбеус: история Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для Чтения». - М.: Наука, 1966. - 239 с.
- Кошелев В. А., Чернов А. В. Человек в художественном мире А. Ф. Вельтмана и Ф. М. Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. - Л.: Наука, 1985. - Вып. 6. - С. 55-63.
- Надеждин Н. И. Здравый смысл и Барон Брамбеус // Телескоп. - 1834. - Ч. XXI. - № 19. - С. 131-175.
- Переверзев В. Ф. У истоков русского реального романа. - М.: Гослитиздат, 1937. - 144 с.
- Савельев П. О жизни и трудах О. И. Сенковского // Собрание сочинений Сенковского (Барона Брамбеуса). - СПб., 1858. - Т. 1. - С. XI-CXII.
- [Сенковская А.] О. И. Сенковский: биографические заметки его жены. - СПб.: В тип. Императорской Академии наук, 1858. - 276 с.
- Успенский Б. А. Что такое парадокс? // Finitis duodecim lustrus: сб. ст. к 60-летию проф. Ю. М. Лотмана. - Таллин, 1983. - С. 159-162.
- Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы. - М.: Худож. лит., 1984. - 509 с.