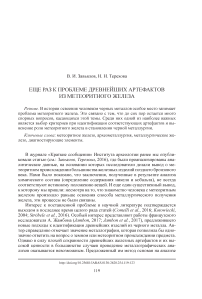Еще раз к проблеме древнейших артефактов из метеоритного железа
Автор: Завьялов В.И., Терехова Н.Н.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Железный век и античность
Статья в выпуске: 254, 2019 года.
Бесплатный доступ
В истории освоения человеком черных металлов особое место занимает проблема метеоритного железа. Это связано с тем, что до сих пор остается много спорных вопросов, касающихся этой темы. Среди них одной из наиболее важных является выбор критериев при идентификации соответствующих артефактов и выяснение роли метеоритного железа в становлении черной металлургии.
Метеоритное железо, археометаллургия, металлургическое железо, диагностирующие элементы
Короткий адрес: https://sciup.org/143167116
IDR: 143167116 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.254.119-123
Текст научной статьи Еще раз к проблеме древнейших артефактов из метеоритного железа
Интерес к поставленной проблеме в научной литературе подтверждается выходом в последнее время целого ряда статей (Comelli et al., 2016; Kotowiecki, 2004; Ströbele et al., 2016). Особый интерес представляют работы французского исследователя А. Жамбона (Jambon, 2017; Jambon et al., 2017), предложившего новые подходы к идентификации древнейших изделий из черного металла. Автор справедливо отмечает значение металлографии, которая позволила бы однозначно ответить на вопрос о земном или метеоритном происхождении предмета. Однако в силу плохой сохранности древнейших железных артефактов и их высокой ценности в большинстве случаев проведение металлографических анализов оказывается невозможным. Предложенный им метод основан на анализе http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.254.119-123
соотношений трех диагностирующих элементов: Ni/Fe vs. Ni/Co. Используя неразрушающий рентгенофлюоресцентный метод, А. Жамбон исследовал ряд древнейших изделий предположительно из метеоритного железа, в том числе знаменитый топор из Угарита и подвеску из Телль ум Марра и др. Полученные данные он сравнивал с полигоном распределения диагностирующих элементов в реальных метеоритах. В том случае, когда данные археологического артефакта совпадали с полигоном распределения диагностирующих элементов в реальных метеоритах, по мнению исследователя, можно уверенно говорить о метеоритном происхождении металла артефакта.
В результате А. Жамбон пришел к выводу, что все (или почти все) железные изделия бронзового века изготовлены из метеоритного железа. Время появления металлургического железа исследователь относит к 1200 г. до н. э.
При всей привлекательности предложенного подхода, на наш взгляд, его не стоит абсолютизировать. Можно привести ряд примеров, когда он не отражает реальной картины.
Так, в 1965 г. польским исследователем Е. Зимны (Zimny, 1965) были опубликованы результаты исследования двух браслетов гальштатского времени из Ченстоховы-Ракува (Częstochowa-Raków) (Польша). Содержание диагностирующих элементов в них было определено: никеля 18,25 и 12,47 % соответственно, кобальта – 0,56 %. На этом основании был сделан вывод об использовании метеоритного металла. А. Жамбон, в свою очередь, подтвердил этот вывод (в соответствии с предложенным им методом).
Однако существуют данные металлографического анализа, проведенного авторитетным польским исследователем проф. Е. Пясковским, которые указывают на металлургическое происхождение металла браслетов. Дело в том, что в структуре металла были обнаружены включения шлака, неизбежного спутника железа, полученного в ходе сыродутного процесса ( Piaskowski , 1982). Остается непонятным, почему А. Жамбон пренебрег этими данными, хотя работа Е. Пяс-ковского указана в списке литературы к его статье.
Еще одним примером того, что метод А. Жамбона не может рассматриваться как универсальный, является топор перв. пол. I тыс. н. э. из Кулаоса (Kjulaas) (Швеция). Несмотря на высокое содержание никеля (5,6 %) и кобальта (0,5 %), микроструктурный анализ однозначно указывает на металлургическое происхождение металла ( Hermelin et al. , 1979). Мы попытались использовать метод А. Жамбона для определения характера металла топора. Получив соотношение Ni/Fe vs . Ni/Co, мы наложили данные на полигон, составленный А. Жамбоном. Оказалось, что соотношение диагностирующих элементов топора укладывается в этот полигон и, в частности, аналогично соотношению диагностирующих признаков металла подвески из Умм эль Марра, которая определена как изготовленная из метеоритного железа ( Jambon , 2017).
Таким образом, хотя предложенный A. Жамбоном метод определения метеоритного происхождения древнейших артефактов достаточно информативен, но, как свидетельствуют металлографические исследования (браслеты из Ченстоховы-Ракува, топор из Кулаоса), не всегда приводит к однозначным выводам.
Надежные данные можно получить, только применяя комплексный анализ предметов, изготовленных предположительно из метеоритного железа. Примером может служить исследование пронизок из Герзеха с применением рентгенофлюоресцентного анализа, методов нейтронной радиографии, компьютерной томографии и др. ( Johnson et al. , 2013; Rehren et al. , 2013). В результате этих исследований получен безусловный вывод об использовании метеоритного металла.
Сам факт применения человеком метеоритного железа закономерно поднимает вопрос о роли этого металла в открытии металлургии железа. Многие исследователи склонны считать, что именно знакомство с метеоритным железом привело к открытию сыродутного способа получения черного металла. На наш взгляд, нет оснований связывать эти два процесса: обработка метеоритного железа – это всего лишь механическая трансформация формы, тогда как металлургический процесс – это процесс превращения веществ (руда – металл). Последний опыт мог быть приобретен на базе цветной металлургии. Нельзя не учитывать и то, что использование такого материала, как метеоритное железо, носило случайный характер ( Coghlan , 1956). Исключительная редкость такого железа не могла способствовать сложению и развитию производственных традиций. Можно высказать и такую парадоксальную мысль: не привело ли получение металлургического железа и развитие технологии его обработки к совершенствованию приемов обработки метеоритного железа (от наиболее простых кузнечных операций, фиксируемых на миниатюрных бусинах-прониз-ках конца IV тыс. до н. э. из Герзеха, к сложным по форме кинжалам эпохи поздней бронзы).
Нельзя согласиться и с положением, высказанным А. Жамбоном, об относительно позднем открытии металлургического способа получения железа (не ранее 1200 г. до н. э.). Свой вывод исследователь обосновывает датой металлургического комплекса из Телль Хамех (X в. до н. э.), считая его древнейшим. Между тем известны более ранние объекты (XIV–XIII вв. до н. э.), обнаруженные в Сербии ( Stojić , 2006), Палестине ( Liebowitz, Folk , 1984), Грузии ( Хахутайшвили , 1987). Тот факт, что в конце II тыс. до н. э. на Ближнем Востоке и в Закавказье уже были известны такие высокотехнологичные для раннего железного века приемы обработки черных металлов, как цементация и термообработка ( Тавадзе и др. , 1977; Fritz et al. , 1991; Muhly et al. , 1985), свидетельствует о достаточно длительном предшествующем пути развития же-лезообработки.
Итак, знакомство человека с метеоритным металлом, на наш взгляд, не повлияло на открытие способов металлургического получения железа. Эти процессы не были связаны ни хронологически, ни технологически.
Основываясь на имеющихся в настоящее время данных металлографического анализа железных артефактов (см.: Akanuma , 2006. С. 207), можно утверждать, что открытие способов металлургического получения железа относится ко времени не позднее рубежа III–II тыс. до н. э. Во втор. пол. II тыс. до н. э. металлургические комплексы известны уже далеко за пределами первоначального очага (Анатолия) возникновения черной металлургии.
Список литературы Еще раз к проблеме древнейших артефактов из метеоритного железа
- Завьялов В. И., Терехова Н. Н., 2016. Древнейшие артефакты из метеоритного железа: мифы и реальность//КСИА. Вып. 243. С. 163-172.
- Тавадзе Ф. Н., Сакварелидзе Т. Н., Абесадзе Ц. Н., Двали Т. А., 1977. К истории железного производства в древней Грузии//Реставрация, консервация, технология музейных экспонатов. Вып. 2. Тбилиси. С. 5-61. (На груз. яз.; рез. на рус. яз.)
- Хахутайшвили Д. А., 1978. Производство железа в древней Колхиде. Тбилиси: Мецниереба. 262 с.
- Akanuma H., 2006. Changes in Iron use during the 2nd and 1st Millennia B.C. at Kaman-Kalehöyük, Turkey: Composition of Iron Artifacts from Stratum III and Stratum II//Anatolian Archaeological Studies. Vol. XV. P. 207-222.
- Coghlan H. H., 1956. Notes on Prehistoric and early iron in the Old World. Oxford: University press. 220 p.
- Comelli D., d'Oracio M., Folco L., El-Halwagy M., Frizzi T., Alberti R., Capogrosso V., El-Naggar A., Hassan H., Nevin A., Porcelli F., Rashed M. G., Valentini G., 2016. The meteoritic origin of Tutankhamen's iron dagger blade .
- Fritz V., Maddin R., Muhly J. D., Stech T., 1991. The iron from Kinneret//Materiały archeologiczne. Kraków. Т. XXVI. P. 97-104.
- Hermelin E., Tholander E., Blomgren S., 1979. A prehistiric Nickel-alloyed Iron Axe//Journal of Historical Metallurgy Society. Vol. 13/2. P. 69-94.
- Jambon A., 2017. Bronze Age iron: Meteoritic or not? A chemical strategy//JAS. Vol. 88. P. 47-53.
- Jambon A., Chanut C., Matoian V., 2017. La Hache Extra-terrestre D'Ougarit (Syrie)//Etudes Ougaritiques. (Ras Shamra -Ougarit.)
- Johnson D., Tyldesley J., Lowe T., Withers P. J., Grady M. M., 2013. Analysis of a prehistoric Egyptian iron bead with implications for the use and perception of meteorite iron in ancient Egypt//Meteoritics and Planetary Science. Vol. 48. Iss. 6. P. 997-1006.
- Kotowiecki A., 2004. Artifacts in Polish collections made of meteoritic iron//Meteoritics and Planetary Science. Vol. 39. Nr. 8. P. A151-A156.
- Liebowitz H., Folk R., 1984. The Dawn of Iron Smelting in Palestine: The Late Bronze Age Smelter at Tel Yin'am, Preliminary Report//Journal of Field Archaeology. Vol. 11. No. 3. P. 265-280.
- Muhly J. D., Maddin, R., Stech, T., Oezgen, E., 1985. Iron in Anatolia and the Nature of the Hittite Iron Industry//Anatolian Studies. Ankara. Vol. XXXV. P. 67-84.
- Piaskowski J., 1982. A Study of the Origin of the Ancient High-Niсkel Iron Generally Regarded as Meteoritic//Early Pyrotechnology. Washington: Smithsonian Institution. P. 237-243.
- Rehren T., Belgya T., Jambon A., Káli G., Kasztovszky Z., Kis Z., Kovács I., Maróti B., Martinón-Torres M., Miniaci G., Pigott V. C., Radivojević M., Rosta L., Szentmiklósi L., Szőkefalvi-Nagy Z., 2013. 5,000 years old Egyptian iron beads made from hammered meteoritic iron//JAS. Vol. 40. No. 12. P. 4785-4792.
- Stojić M., 2006. Ferrous metallurgy center of the Brnjica cultural group (14th-13th centuries BC) at the Hisar site in Leskovac//Metalurgija -Journal of Metallurgy. Vol. 12. No. 2-3. P. 105-110.
- Ströbele F., Broschat K., Koeberl C., Zipfel J., Hassan H., Eckmann Ch., 2016. The iron objects of tutanchamun//Metalla. Archäometrie und Denkmalpflege. Göttingen Sonderheft 8. P. 186-189.
- Zimny J., 1965. Metaloznawcze badania halsztackich wyrobów zełaznych z Częstochowy-Rakówa//Rocznik Muzeum w Częstochowie. 1. S. 329-400.