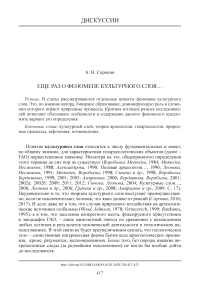Еще раз о феномене культурного слоя
Автор: Сорокин А.Н.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 256, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются отдельные аспекты феномена культурного слоя. Это, по мнению автора, бинарное образование, доминирующую роль в сложении которого играют природные процессы. Критика взглядов разных исследователей позволяет обосновать особенности и содержание данного феномена и предложить вариант его определения.
Культурный слой, теория археологии, геоархеология, природные процессы, тафономия, почвоведение
Короткий адрес: https://sciup.org/143169003
IDR: 143169003
Текст научной статьи Еще раз о феномене культурного слоя
В отечественной первобытной археологии понятие культурного слоя вырабатывалось преимущественно усилиями классиков палеолитоведения – П. П. Ефименко, С. Н. Замятнина, А. Н. Рогачева, П. И. Борисковского, И. Г. Шовкопляса, считавших эту категорию, при всей разнице их взглядов, «как нечто изначально данное, само собой разумеющееся и не требующее специального изучения» ( Александрова , 1990. С. 4). Такой вывод был убедительно обоснован М. В. Александровой, одной из первых среди советских исследователей пришедшей к пониманию двойственной природы феномена культурного слоя. Впервые он прозвучал в 1984 г. в ее докладе на Всесоюзном совещании, посвященном методике полевых археологических исследований памятников каменного века ( Александрова , 1990).
Четко сформулировав принципиальный вопрос, «что есть культурный слой?», М. В. Александрова не дает, однако, на него столь же ясного ответа, а ограничивается пояснениями частного характера, включая вопросы о компонентах слоя и о том, как он образуется. Наиболее полноценно при этом ею сформулирован ответ, в каких местах он генерируется: «…культурный слой формируется на местах поселений палеолитического человека» (Там же. С. 5), впрочем, это было известно и до нее. Обстоятельнее прозвучало рассуждение о разнице в слоях поселений, под которыми понимались места постоянного или длительного обитания (стоянки, стойбища), и таких специализированных объектов, как мастерские и охотничьи лагеря. Первые (по М. В. Александровой) выделяются «археологическими (культурными) остатками… и следами антропогенного воздействия на “почву” и почвенные процессы», вторые – «отсутствием одного из двух основных слагаемых культурного слоя – “заполнителя”, замещенного четвертичными отложениями, не претерпевшими воздействия человека» (Там же. С. 5, 6). Она полагает, что в этих случаях «мы будем иметь дело не с культурным слоем, но с близкими ему образованиями», причем «…принципиальное отличие одного от другого – по ее мнению – состоит в степени антропогенного воздействия на породу» (Там же. С. 6). С подобным утверждением можно согласиться лишь с той оговоркой, что если на стоянках, помимо артефактов, присутствуют явные следы переработки геологических напластований, то на кратковременных объектах следы воздействия на ландшафт и почву скрытые. Тем не менее они тоже есть и их можно уловить разнообразными естественнонаучными методами, среди которых следует, прежде всего, назвать фосфатный, фитолитный и комплексный биоморфный анализы.
В качестве двух основных слагаемых культурного слоя М. В. Александрова выделяет уцелевшие в виде объектов культурные остатки и подвергшиеся разложению органические материалы и изделия из них, а также минеральные краски, очажные материалы (уголь, зола, пепел) и т. п., объединяемые ею в «антропогенный компонент палеолитического культурного слоя». Этот «антропогенный компонент» она называет «заполнителем» (Там же. С. 5). Однако далее она пишет: «…для обозначения субстрата, заключающего материальные остатки неразрушенного поселения и образующего с ними органическое целое – культурный слой, – введен термин “заполнитель”… Заполнитель… представляет собой второе основное слагаемое культурного слоя» (Там же. С. 6). Тут налицо явное противоречие, так как в качестве заполнителя у нее выступают и «разложившиеся следы органических артефактов, краска, очажные материалы и пр.», говоря другими словами, явные продукты, произведенные человеком, и порода (геологическое тело), заключающая эти остатки, т. е. несомненный природный субстрат. Правильность такого вывода подтверждается фразой М. В. Александровой: «Его основой (заполнителя. – А. С.) являются четвертичные осадочные отложения, а также частично отложения, сформировавшиеся до прихода человека: разрушаемая людьми в процессе их обитания кровля того геологического слоя, на поверхности которого возникло поселение» (Александрова, 1990. С. 6). Таким образом, речь идет о геологических напластованиях или природной основе, а отнюдь не некоем особом заполнителе, и во избежание путаницы целесообразно, следовательно, развести антропогенную и естественную составляющие культурного слоя. В таком случае породу логично считать субстратом – первичным или базисным компонентом, а все антропогенные структуры в ней с их видимыми и невидимыми признаками – «заполнителем» или вторичными образованиями и, следовательно, своеобразными интрузиями.
М. В. Александрова полагает, что главную роль в формировании культурного слоя «играют осадки, отлагающиеся в процессе жизни поселения» (Там же), с чем вряд ли можно согласиться. Ибо факты весьма недвусмысленно говорят о крайне медленной стандартной скорости седиментации эоловых напластований (в среднем около 1 см за 300–500 лет) ( Сорокин , 2006). Подобной скорости явно недостаточно, чтобы их прирост накладывал радикальный отпечаток на генезис слоя еще в ходе обитания. Кроме того, численность жителей любой палеолитической стоянки, как и всего населения Циркумполярной зоны Евразии в плейстоцене, была весьма невелика, чтобы усилия людей радикально влияли на этот процесс.
Вызывает удивление и ремарка М. В. Александровой, что, «формируя свой состав из предметов и веществ антропогенного и природного происхождения, культурный слой приобретает черты как археологического, так и геологического образования, а оформившись в итоге в виде “слоя”, получает, кроме того, статус стратиграфического образования» ( Александрова , 1990. С. 7). Культурный слой – объект неодушевленный, следовательно, он никак не может быть творцом и «формировать свой состав», при этом черты геологического образования в нем присутствуют изначально, а отнюдь не благоприобретенные в процессе генезиса. Следовательно, в сущностном и философском отношениях эта фраза явно неудачна и не соответствует реальности. Зато двойственность природы культурного слоя ею отмечена совершенно верно.
Таким образом, считая вслед за основоположниками отечественного палеолитоведения следы построек главным компонентом палеолитического культурного слоя, а сам грунт – их заполнителем, М. В. Александрова (Там же. С. 5) совершает логическую ошибку. Ибо этим она нарушает причинно-следственные связи, при которых бытие геологических тел первично, а все результаты человеческой деятельности по отношению к ним, даже если они непосредственно внедрены в породу, вторичны. Это означает, что весь выбывший из употребления и попавший в землю инвентарь, обветшавшие постройки и заглубленные конструкции со всем их содержимым – это никак не базис поселения, а надстройка или, говоря другими словами, заполнитель (синонимы – наполнитель, включения, интрузия и т. д.) формирующегося слоя. И считать по-другому неверно.
Приблизительно в то же время вышла в свет весьма содержательная статья Г. И. Медведева и С. А. Несмеянова ( Медведев, Несмеянов , 1988), также сыгравшая положительную роль в теоретическом осмыслении этого фундаментального гносеологического понятия. В разделе, озаглавленном «Строение “культурных отложений” и проблема выявления культурного слоя», они утверждают: «Одним из важных путей познания местонахождений каменного века является изучение их геологического разреза… Любой слой такого разреза, в том числе и содержащий археологический материал, должен считаться геологическим слоем» (Там же. С. 113), с чем нельзя не согласиться. И добавляют: «Важнейшим отличием слоев, содержащих археологический, а точнее, культурный материал, т. е. культуросодержащих слоев, служит то, что в формировании тех из них, которые образовались на месте поселений или мастерских древнего человека, участвовали два процесса: естественный, т. е. процесс седиментации, и связанный с деятельностью человека – антропогенный процесс. При этом термин “антропогенный” понимается в его прямом смысле, как процесс формирования любых антропогенных материалов и образований, т. е. материалов и структурно-текстурных особенностей, связанных с любым видом деятельности древнего человека» (Там же. С. 113, 114). Подобный подход недвусмысленно отражает природные начала рассматриваемого феномена и определяет неосознанно-созидательную роль в этом процессе человека.
Далее в статье идет пояснение, что «традиционно “культурными” факторами считаются хозяйственно-производственный, хозяйственно-бытовой и хозяйственно-ритуальный (“духовный”). Кроме того, антропогенными являются и продукты собственно жизнедеятельности человека. Наиболее общим термином, объединяющим все разнообразие результатов взаимодействия процесса седиментации и антропогенного процесса, может служить термин “культурные отложения”» (Там же. С. 114). Культурные отложения – по мнению Г. И. Медведева и С. А. Несмеянова – могут быть:
-
1) «первично-погребенными» (тафономичными) – непотревоженными, залегая на месте своего первоначального захоронения, что подтверждается их относительной планиграфической и стратиграфической целостностью;
-
2) «перезахороненными», когда произошло разрушение первично погребенных культурных отложений (КО), фиксируемое нарушением первоначальной планиграфии и топографии, часто с сохранением КО на прежнем геоморфологическом уровне;
-
3) «переотложенными», когда произошло перемещение предметов с места их первоначального захоронения на другие участки, гипсометрические уровни и геоморфологические формы, оказавшись тем самым в новой стратиграфической ситуации, где артефакты вмещены в иной геологический слой, пачку, пласт и т. д., во всех случаях более поздний по возрасту, чем сама культура;
-
4) «экспонированными», когда при деструкции кроющих и вмещающих геологических отложений, проекции культуры па поверхность подстилающих пород и отсутствии нового захоронения культурные образования имеют поверхностное залегание. И поясняют, что «…в состав культурных отложений входят
любые культуровмещающие (культуросодержащие) геологические слои (КГС), т. е. все разнообразие результатов захоронения и консервации следов деятельности древнего человека» ( Медведев, Несмеянов , 1988. С. 114, 115). Это позволяет им выйти на сущность культурного слоя. Они полагают, что «…собственно “культурный слой”, т. е. слой первичной концентрации культурного материала, является лишь одним из вариантов культуросодержащего геологического слоя (КГС), а именно слоем, в котором фиксируются следы (структурно-текстурные особенности и культурные, а точнее, антропогенные материалы) деятельности людей. Именно этот вид КГС создавался при непосредственном участии человека, т. е. служит свидетельством существования на месте его захоронения в разрезе разных типов поселений или мастерских. Но к КГС относятся и слои, в которых культурный материал был захоронен и без участия человека. Они образуются в результате разных видов разрушения культурных слоев как на месте прежних поселений – слои остаточной концентрации культурного материала, так и сопровождавшегося различными видами перемещения этого материала – слои его вторичной концентрации» (Там же. С. 115). Вне всякого сомнения, подобный подход уместен для мультислойчатых ГАО, когда в силу характерной для них высокой скорости седиментации существуют реальные возможности для выделения прижизненного этапа переработки человеком природных напластований и быстрого захоронения последними антропогенных следов. Тем не менее, как и всякая идеальная картина, эта несколько далека, по-видимому, от действительности, особенно если применять ее к равнинным ГАО. Более того, изыскания показывают, что даже в случаях высокой скорости тафономии культуросодержащие слои и сами артефакты подвергаются непременной переработке разнообразными природными феноменами, в результате чего значительно трансформируются и уже не достаются исследователю в первозданном виде. И здесь глобальную роль природных факторов вряд ли целесообразно преуменьшать. Следует также отметить, что роль человека в погребении формирующегося слоя вообще, по-видимому, ничтожна. Например, удаление углистой массы из очагов способно скрыть прилегающие к ним скромные по габаритам участки. А выкиды из хозяйственных ям или котлованов жилищ могут перекрыть прилегающие к ним фрагменты дневной поверхности и, соответственно, слоя, но не способны захоронить места поселений в целом. Сложнее обстоит с тем, воспринимать ли в качестве собственно культурных слоев те, «…в которых культурный материал был захоронен и без участия человека» (Там же), или их логичнее все же рассматривать в качестве культуросодержащих напластований, четко отделяя, следовательно, одно от другого? Тем не менее нельзя не согласиться с их утверждением, «…что только культурные слои возникают при участии антропогенного процесса», а также с тем, что «…любая совокупность следов человеческой деятельности доходит до исследователя в измененном состоянии» (Там же). Последнее и отражает, собственно, результаты воздействия природных феноменов на артефакты и слои.
Крайне интересным представляется наблюдение Г. И. Медведева и С. А. Несмеянова о том, что «характер седиментации налагает отпечаток и на возможности интерпретации археологического материала. Например, скопления, погребенные в аллювиальных и озерных отложениях, в силу внезапности и быстроты захоронения обладают наиболее высоким показателем “закрытости”. Близки к ним и ситуации захоронения ритмическими склоновыми процессами. Эоловые процессы, быстро погребая одни культурные отложения, неизбежно обнажают другие, чем создают ситуации механического совмещения и открывают доступ антропогенного внедрения в инокультурные отложения» (Медведев, Несмеянов, 1988. С. 117).
Далее, обсуждая типы памятников эпохи каменного века, они призывают «…все пункты находок древней культуры именовать нейтральным термином “местонахождения”» (Там же. С. 118), с чем крайне сложно согласиться. Дело в том, что этот термин уже в 1980-е гг. имел устойчивое отношение к поверхностным сборам находок (экспонированным «месторождениям»), не обладающим явными признаками культурного слоя. В таком значении он и служил своеобразной антитезой терминам «стоянка», «стойбище», «поселение» и некоторым другим, предполагавшим его наличие. Более удачным было бы, по-ви-димому, называть их все в терминах классической дисциплины «памятниками археологии» или нейтральным понятием «пункт», а в традициях геоархеологии – «геоархеологическими объектами» ( Медведев , 2008). Подобные обозначения не несут скрытого подтекста ни в виде функциональной принадлежности (типа памятника), ни тем более подспудного указания на наличие – отсутствие на нем культурного слоя. А термин «местонахождение» логичнее использовать в традиционном значении, относя к нему все экспонированные объекты, не имеющие культурного слоя.
Весьма содержателен и следующий раздел их статьи, посвященный детальному анализу структуры культурных отложений и их элементов, признакам культурных слоев и типам первобытных поселений ( Медведев, Несмеянов , 1988. С. 119–125). На этом основании фундаментально выглядит их вывод о «генетической и временной взаимосвязи эпох формирования главных культурных слоев и почвообразования», иллюстрируемый материалами Средней Азии и Юга Средней Сибири (Там же. С. 130), однако подробное изложение этого сюжета значительно увело бы нас в сторону.
Широкую известность в археологической среде получило подкупающее своей краткостью определение культурного слоя, предложенное Х. А. Амирхановым ( Амирханов , 2000. С. 43). Он полагает, что «культурный слой – это структурное единство предметов, объектов и других остатков человеческой деятельности, залегающих в погребенном состоянии» (Там же; Амирханов и др ., 2009. С. 17). Оригинальное на момент выхода, это определение во многом устарело и уже не отражает современных тенденций развития знания. Прежде всего, необходимо сказать, что в такой интерпретации речь о культурном слое как таковом вообще не идет, а акцент переносится исключительно на «образующие некие структуры» антропогенные и археологические составляющие, с чем, разумеется, согласиться нельзя. Культурный слой – это, прежде всего, естественное (= природное) образование или, говоря иначе, геологическое тело, переработанное в ходе антропогенного воздействия с включением в него артефактов и других следов человеческой деятельности, а также результатов последующего процесса тафономии этих следов и компонентов. Это триединство, хотим мы того или нет, не только создает сам культурный слой (субстрат) и его заполнитель
(антропологические компоненты и их следы), но и достается археологу в качестве объекта исследования, говоря иначе – археологического источника. В результате для Х. А. Амирханова культурный слой выступает исключительно как одно из понятий археологии, а отнюдь не в качестве сложного геоархеологиче-ского феномена. К этому необходимо добавить, что анонсируемое «структурное единство» – это никак не объективная данность, наблюдаемая полевым исследователем в его ощущениях в процессе полевых изысканий. Это результат длительной природной трансформации мест обитания человека и всех приуроченных к ним артефактов. Вот почему крайне немаловажен кропотливый труд исследователя в полевых и камеральных условиях, итогом которого является реконструкция генезиса самого слоя и всех входящих в него компонентов с доказательством последовательности их включения, определением процесса тафономии и реальных структур, формировавшихся и бытовавших в одно и то же время. Это прижизненная и постседиментационная переработка геологических напластований и формирует ту картину, которую археолог наблюдает и пытается изучать, применяя к этому всевозможные способы раскопок и анализов, позволяющие более или менее адекватно воссоздавать те первоначальные структуры, которые сопрягаются с конкретными эпизодами местообитания.
Не вызывает сомнения, что стартовым механизмом для образования КС служит появление на конкретном участке палеорельефа человеческого коллектива, обустройство им бытовой инфраструктуры и сосредоточение в процессе жизнедеятельности на локальном месте значительного числа отходов производства и органических остатков. Никакого слоя (суглинка, глины, песка и т. д.) при этом человек с собой не приносит. Переработке в процессе жизнедеятельности подвергаются покровные отложения, но результат этого не идет ни в какое сравнение с тем, как формируются слои теллей, где базисом КС является приносимая человеком извне порода (глина, лёсс, илистые отложения и т. д.), которую перемешивают с навозом и которая идет на возведение построек, а после их разрушения служит материалом прослоев, вмещающих артефакты и создающих стратиграфию теллей. Повторюсь: они-то и служат базисом КС, который заключает в себе артефакты и все следы антропогенного воздействия. Ничего подобного в каменном веке Европейской России, включая, разумеется, и палеолит, никогда не было и быть не могло. В этой связи еще раз подчеркну: определение Х. А. Амирханова не отвечает современным естественнонаучным представлениям и прямо противоречит тому, что говорит геоархеология.
Из сравнительно недавних исследований по теории культурного слоя остановлюсь на работах почвоведа С. А. Сычевой и археолога Н. Б. Леоновой, которыми предложено наиболее четкое определение этого понятия. Под культурным слоем они понимают «антропогенный почвенно-литологический горизонт, образованный на месте поселения людей и включенный в толщу плейстоценовых или голоценовых отложений, а также в профиль голоценовых дневных и погребенных почв» (Сычева и др., 1998; Сычева, Леонова, 2004; Культурные слои…, 2006; Леонова и др., 2006). Прежде всего, обращает внимание тот факт, что почвы выступают как самостоятельная субстанция, что вряд ли справедливо, поскольку это элемент геологических напластований. Однако вывод, что слой выступает как бинарное (антропогенно-природное) образование и результат воздействия человека на среду обитания, следует рассматривать, безусловно, как положительный. Вместе с тем его археологическая составляющая выглядит несколько неопределенно. Например, такие типы памятников археологии, как мастерские, охотничьи лагеря или рыбацкие тони, – это отнюдь не места поселений, а специализированные объекты, которые, тем не менее, имеют явные следы человеческого присутствия, как в виде продуктов орудийной деятельности, так и следов переработки почвенного покрова, наличия кострищ, ям, западин и т. д. Очевидно и то, что их своеобразный слой далеко не всегда бывает связан с почвами, тем более исключительно голоценовыми. Аналогичное можно сказать и о могильниках. Совершенно очевидно, что могильные ямы и погребальные сооружения, заглубленные в толщу голоценовых и даже плейстоценовых напластований, в ряде случаев не будут совпадать с профилями погребенных почв, ибо порою внедряются в геологическую породу такого возраста, когда самого человека еще не было.
Несовпадение одного с другим характерно и для всех упомянутых выше кратковременных памятников, особенно в тех случаях, когда они приурочены к нестандартным формам рельефа – галечным и песчаным косам, котловинам выдувания дюн и боровых террас, конусам выноса и пр. Не вызывает сомнения, что в ряде случаев многие из них по факту не будут иметь почвенного профиля, однако исключать их из разряда памятников археологии и геоархеологических объектов, а их напластования – по крайней мере, из разряда культуросодержащих – весомых оснований, по-видимому, нет.
В случае перемещения артефактов и последующего захоронения реальная картина их залегания также не обязательно будет связана с почвой. А при экспонированном состоянии изделий подстилающая толща, на которой они покоятся, также может не иметь следов почвообразования. Хотя наиболее часто места поселений и их культурные слои – и с этим, по-видимому, не приходится спорить – все же бывают приурочены к почвенным горизонтам.
Таким образом, беглый анализ материалов, если суммировать все вышеизложенное, свидетельствует, что культурный слой имеет бинарную природу, которая предполагает непременное присутствие двух компонентов: а) породы (или геологического тела) и б) следов (признаков) человеческой деятельности. Последние выступают как в форме всего спектра артефактов, так и в виде негативов антропогенного воздействия на ландшафт и среду обитания ( Медведев, Несмеянов , 1988; Александрова , 1990; Медведев, Воробьева , 1998; Воробьева, Бердникова , 1999; 2001; Сычева и др ., 1998; Сычева, Леонова , 2004; Леонова и др. , 2006; Грачева и др ., 2006). И только в таком тандеме и возможен феномен культурного слоя.
Другим атрибутом культурного слоя служит его структурная взаимосвязь с памятниками археологии. Это, собственно, и выделяет признаки человеческого обитания среди всех природных образований, маркируя их визуально или проявляясь исключительно с помощью естественнонаучных анализов. Это означает, что под культурным слоем следует понимать геологическое тело с заключенными в нем артефактами и другими следами человеческой деятельности (Сорокин, 2012. С. 208–210). По сути своей культурный слой – это продукт генетического преобразования породы вследствие антропогенного вмешательства и глобальной трансформации последнего процессами природной переработки и тафономии.
Культурный слой стоянок каменного века образовывался главным образом за счет переработки покровных отложений того места, где поселялся человек. Обычно это были участки со стабильной поверхностью и развитыми почвенными профилями, реже в качестве мест поселений выбирались менее комфортные формы рельефа. Среда обитания включала и весь окружающий ландшафт, становившийся объектом воздействия, но культурные слои в качестве особой субстанции при этом обычно не формировались. В подобных случаях мы имеем дело с естественными напластованиями, включающими отдельные признаки обитания, говоря другими словами, культуросодержащие структуры. Культуросодержащими будут и все напластования с артефактами, находящимися в перемещенном состоянии в результате разнообразных природных катаклизмов. Сюда же относятся и все случаи вторичного перезахоронения, диахронные моментам заселения.
Роль седиментационных процессов в формировании культурных слоев из-за их малой скорости была, по-видимому, не столь существенной. Более того, реальный прирост напластований с захоронением следов обитания происходил обычно уже после того, как стоянка переставала функционировать, становилась элементом природной среды и вовлекалась в естественные, прежде всего почвенные, процессы. Это они и обеспечивали объем «культурных горизонтов» и ту цветность, которая фиксируется в ходе раскопок «культурных» напластований – привычную для многих серую или темно-серую окраску, вызванную естественными процессами гумификации и углефикации органических веществ. Антропогенные компоненты в виде углистой и сажистой массы, пепла, охры, тлена, органических остатков и даже жирности служили лишь дополнением к природному субстрату, не сказываясь радикально на общем его состоянии. Весомую роль в складывающейся палитре играли и разнообразные физико-химические процессы – наличие и объем солей железа, кальция, марганца и других элементов, а также целых и разложившихся новообразований, что и обеспечивало их разнородную пятнистость. Значительную роль в специфической окрашенности культурогенных и культуросодержащих напластований играла солифлюкция и другие типы крио- и педогенеза.
Формирование перекрывающих напластований в финале плейстоцена и голоцене на территории Лесной зоны при стандартных типах седиментоза было, вероятно, минимальным, недаром первые артефакты начинают встречаться уже на дневной поверхности или сразу под дерном. В ходе заселения «прирост» напластований происходил в основном за счет втаптывания в грунт утерянных и выбывших из употребления вещей, почвенных процессов и промывного режима. Поскольку захоронение материалов осуществлялось в активном почвенном горизонте, почвенный профиль в том или ином виде и сохранялся, особенно в тех случаях, когда были условия для относительно быстрого формирования перекрывающих прослоев, в результате чего и генерировались горизонты погребенных почв. Присутствие балласта явно указывает на перерыв в заселении. Немаловажно и то, что реальное захоронение культурного слоя осуществлялось преимущественно после того, как стоянку покидали. Это, разумеется, не отменяет того, что могли быть и этапы его разрушения и перезахоронения.
Любая первобытная стоянка в момент обитания представляла собой место аккумуляции не только неорганических материалов и артефактов, но и разного рода органических отходов, количество которых и служило, собственно, реальным стартовым механизмом генерируемого культурного слоя. Происходило это потому, что органика подвергалась разнообразным физическим процессам, а также становилась объектом переработки всевозможными живыми организмами. И процесс этот был тем сильнее, чем активнее была деятельность палеонаселения по замусориванию собственной среды обитания. Преобразующая роль фауны, аэробных и анаэробных бактерий неизбежно приводила к перевариванию, трансформации и перемещению в пространстве органических веществ, точно так же, как и перераспределению минеральных компонентов слоя, т. е. значительному перемешиванию «всего и вся». На это со всей очевидностью указывают изменения фосфатного, микробиологического и химического состава ГАО при их сопоставлении с фоновыми почвами ( Александровский , 1983; 1989; Александровский, Александровская , 2005; Демкин и др ., 1992; Демкин , 1997; Александровский и др ., 2011; Память почв…, 2008; Кренке и др ., 2012; Ершова, Кренке , 2014; Чернышева и др ., 2016).
Когда жизнедеятельность человека на конкретном местообитании прекращалась, природные процессы отнюдь не затухали, напротив, они на какое-то время лишь усиливались, поскольку для всех биологических видов исчезала субъективная помеха в виде человека. В конечном счете это и приводило к формированию нового генетического образования – культурного слоя. И особенно велика была в его генезисе роль почвенных процессов. За счет педогенеза и педотурбации осуществляется переработка всех признаков обитания, включая деструкцию костных, роговых, растительных и разнообразных других органических остатков и сооружений. Большая их часть прекращала свое физическое существование или становилась различимой лишь с помощью специальных методов, меньшая – сохранялась в виде негативов конструкций и артефактов, особенно если последние были изготовлены из минерального сырья. Наибольшему разрушению подвергается, без сомнения, органическая составляющая, хотя и она за счет углефикации в ряде случаев способна быть визуально осязаемой. В таком деформированном виде памятник и его культурный слой и становятся, как правило, объектом изучения.
В любом случае представляется очевидным, что основная роль в формировании культурных слоев первобытных памятников принадлежит разнообразным природным феноменам, а отнюдь не человеку ( Wood, Johnson , 1978; Vermeersch , 1999; Сорокин , 2000; 2003; 2007; 2013; 2016). Взвесь из артефактов, фауны, углей, охры и всего прочего в пачке рыхлых отложений, с которой чаще всего и отождествляется понятие культурного слоя памятников эпохи палеолита – мезолита, – это результат стандартного воздействия совокупных природных процессов на любые местообитания палеонаселения. А отнюдь не заслуга человека и даже не плод усилий «подлинного культурного слоя» ( Александрова , 1990. С. 8). И понимание сути этого явления – неизбежное следствие развития науки целом.
Роль человека состоит в том, чтобы освоить конкретное место и в меру сил и возможностей замусорить его, дабы дать старт вечному природному процессу тафономии всех антропологических внедрений с приведением их в омертвленное
(«литологическое») состояние, т. е. пока все они не перестанут представлять никакого интереса для природной деятельности.
Среда обитания – основа жизни человека в качестве биологического и социального вида. В процессе жизнеобитания человек не только адаптируется к экологическим условиям, циклическим изменениям природной среды, но и перерабатывает многие компоненты биосферы. Воздействие палеопопуляций на такие компоненты ландшафта, как почва, растительный покров и локальный рельеф, т. е. трансформация педогенетических и орогенетических процессов, находит непосредственное выражение в формировании особого геолого-антропогенного феномена, получившего наименование культурного слоя, а также артефактах, инфраструктурах и следах их переработки и тафономии, фиксируемых методами геоархеологии.
Необходимо подчеркнуть, что предметом изучения геоархеологии служит биосфера Земли, следовательно, он намного шире предмета традиционной археологии. Это же касается и методики геоархеологии, являющейся симбиозом естественнонаучных дисциплин, «пищу» для которых добывают путем археологических раскопок. В этой связи следует заметить, что разница археологического и геоархеологического подходов к культурному слою и другим феноменам принципиальная и состоит она, прежде всего, в РАЗНОМ подходе к источнику. В одном случае – это попытка выхода на некие исторические процессы, в другом – закономерности развития природы и человека, как одного из компонентов биосферы. Более того, памятник археологии – это, прежде всего, природный объект, хотя его генезис и инициирован «антропогенными внедрениями в геологическое тело». Вот почему отрицание в настоящее время принципов геоархеологии служит явным анахронизмом. Уверен, что объективное понимание феномена культурного слоя возможно лишь в рамках геоархеологического подхода.
Любые археологические раскопки – это процесс физического уничтожения источника. Понимание законов тафономии и использование в ходе изысканий методов геоархеологии в значительной мере определяют соотношение полученной исследователями и безвозвратно утраченной ими информации при раскопках каждого конкретного геоархеологического объекта. Это и определяет ответственность каждого исследователя перед доставшимся нам наследием и наукой.
Разумеется, я не утверждаю исключительную правильность своей позиции, и более того – не претендую на исчерпанность затронутой темы, однако всерьез полагаю, что мультидисциплинарный, характерный для геоархеологии, подход полноценнее отражает сущность данного фундаментального понятия, чем представления традиционной первобытной археологии, и этот текст может быть полезен для выработки адекватной теории культурного слоя.
Различия между археологическим и геоархеологическим подходами носят принципиальный характер. Это неудивительно, ибо в точности отражает современную парадигму, суть которой в разном подходе к источнику. Считать ли его сугубо археологическим или комплексным (мультидисциплинарным), когда методика археологических изысканий служит лишь действенным способом извлечения широкого спектра не только гуманитарной, но и естественнонаучной информации? Первое из этих направлений – традиционное, доминировавшее в науке на протяжении всего ХХ в., второе – геоархеологическое, давно получившее широкое распространение на Западе, но пока еще слабо представленное в отечественной науке. Тем не менее второе существенно расширяет познавательные источниковедческие возможности и выводит их на новый научный уровень. Надеюсь, что и этот текст окажется небесполезным для выработки адекватной характеристики обсуждаемого феномена.
Список литературы Еще раз о феномене культурного слоя
- Александрова М. В., 1990. Некоторые замечания по теории культурного слоя // КСИА. Вып. 202. С. 4-8.
- Александровский А. Л., 1983. Эволюция почв Восточно-Европейской равнины в голоцене. М.: Наука. 150 с.
- Александровский А. Л., 1989. Почвообразование и культурный слой // Актуальные проблемы методологии западносибирской археологии / Отв. ред. А. П. Деревянко. Новосибирск: Наука. С. 28-30.
- Александровский А. Л., Александровская Е. И., 2005. Эволюция почв и географическая среда. М.: Наука. 224 с.
- Александровский А. Л., Балабина В. И., Мишина Т. Н., Седов С. Н., 2011. Телль Юнаците и поселение рядом с ним: сравнительный педологический анализ в контексте археологической стратиграфии // КСИА. Вып. 225. С. 189-205.
- Амирханов Х. А., 2000. Зарайская стоянка. М.: Научный мир. 248 с.
- Амирханов Х. А., Ахметгалеева Н. Б., Бужилова А. П., Бурова Н. Д., Лев С. Ю., Мащенко Е. Н., 2009. Исследования палеолита в Зарайске: 1999-2005. М.: Палеограф. 466 с.
- Бердникова Н. Е., Воробьева Г. А., 2001. Культуросодержащие и культурогенные слои в стратифицированных археологических объектах // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. 7. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 46-50.
- Бердникова Н. Е., Воробьева Г. А., 2002а. События и геоархеологические объекты // Археологическое наследие Байкальской Сибири: изучение, охрана, использование. Вып. 2. Иркутск: Ин-т географии СО РАН. С. 4-12.
- Бердникова Н. Е., Воробьева Г. А., 2002б. Феномен "культурного слоя" исторического Иркутска // Земля Иркутская. № 1. С. 68-75.
- Бердникова Н. Е., Воробьева Г. А., 2009. Возможности интерпретации геоархеологических контекстов // Вузовская научная археология и этнология Северной Азии. Иркутская школа 1918-1937 гг.: материалы всерос. семинара, посвящ. 125-летию Б. Э. Петри (Иркутск 3-6 мая 2009 г.) / Отв. ред. Г. И. Медведев. Иркутск: Амтера. С. 202-219.
- Бердникова Н. Е., Воробьева Г. А., 2011. Геоархеологические аспекты в исследованиях культурных отложений // Методика междисциплинарных археологических исследований / Ред. Л. В. Татаурова. Омск: Наука. С. 18-37.
- Бердникова Н. Е., Воробьева Г. А., 2012. Особенности многослойных геоархеологических объектов в нижнем течении р. Белой (Юг Байкальской Сибири) // Феномен геоархеологической многослойности Байкальской Сибири. 100 лет Байкальской научной археологии: материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня открытия Б. Э. Петри Улан-Хады. Иркутск: ИГУ С. 54-72. (Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры; вып. 1).
- Воробьева Г. А., Бердникова Н. Е., 1999. К тафономии культурных остатков в геоархеологических объектах // Геохимия ландшафтов, палеоэкология человека и этногенез. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН. С. 421-423.
- Воробьева Г. А., Бердникова Н. Е., 2001. Археотафономия: этапы, процессы, циклы (в порядке дискуссии) // Современные проблемы Евразийского палеолитоведения: материалы докл. Международ. симпозиума, посвящ. 130-летию открытия палеолита в России (1-9 авг. 2001 г., Иркутск). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 53-70.
- Воробьева Г. А., Бердникова Н. Е., 2003. Реконструкция природных и культурных событий на территории Иркутска. Научно-методические разработки междисциплинарных исследований городского культурного слоя. Иркутск: Иркутский гос. техн. ун-т. 90 с.
- Воробьева Г. А., Медведев Г. И., 1984. Плейстоцен-голоценовые отложения юга Средней Сибири и археологические остатки в геологических слоях. Иркутск: Иркутский ун-т. 44 с.
- Грачева Р. Г., Сорокин А. Н., Малясова Е. С., Успенская О. Н., Сулержицкий Л. Д., Чичагова О. А., 2006. Погребенные почвы и культурные слои в условиях заболоченных равнин: возможности и ограничения методов археологических и природных реконструкций // Культурные слои археологических памятников. Теория, методы и практика: материалы науч. конф. / Ред.: С. А. Сычева, А. А. Узянов. М.: НИА-Природа. С. 186-211.
- Грачева Р. Г., Сорокин А. Н., Тишков А. А., 2008. Эволюция почв и ландшафтов зандровой равнины: результаты междисциплинарных исследований // Взаимодействие человека и окружающей среды в бореальной лесной зоне: прошлое, настоящее и будущее: материалы Междунар. конф. (Москва, 24-30 июля 2008 г.). М.: ИГ РАН. С. 32-34.
- Демкин В. А., 1997. Палеопочвоведение и археология. Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН. 214 с.
- Демкин В. А., Лукашов А. В., Ковалевский И. С., 1992. Новые аспекты проблемы палеопочвенного изучения памятников археологии // РА. № 2. С. 43-49.
- Ершова Е. Г., Кренке Н. А., 2014. Изучение природных и культурных ландшафтов железного века в долине Москвы-реки методами палинологии и археологии // ВААЭ. Т. 26. № 3. С. 159-172.
- Кренке Н. А., Александровский А. Л., Войцик А. А., Елкина И. И., Ершов И. Н., Ершова Е. Г., Лазукин А. В., Мазуркевич А. Н., Панин А. В., Кудрявцев А. А., Лавриков М. В., Воронкин В. А., 2012. Новые исследования 1-й Звенигородской неолитической стоянки на Москве-реке // АП. Вып. 8 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 16-28.
- Культурные слои археологических памятников. Теория, методы и практика исследований: материалы научной конференции / Отв. ред.: С. А. Сычева, А. А. Узянов. М.: НИА-Природа, 2006. 306 с.
- Леонова Н. Б., Несмеянов С. А., 1991. Проблемы палеоэкологической характеристики культурных слоев // Методы реконструкций в археологии / Отв. ред. Ю. П. Холюшкин. Новосибирск: Наука. С. 219-246.
- Леонова Н. Б., Несмеянов С. А., Виноградова Е. А., Воейкова О. А., Гвоздовер М. Д., Миньков Е. В., Спиридонова Е. А., Сычева С. А., 2006. Палеоэкология равнинного палеолита (на примере комплекса верхнепалеолитических стоянок Каменная Балка в Северном Приазовье). М.: Научный мир. 360 с.
- Медведев Г. И., 2008. Геоархеология. Сюжеты истории формирования // Антропоген. Палеоантропология, геоархеология, этнология Азии. Иркутск: Оттиск. С. 133-155.
- Медведев Г. И., Воробьева Г. А., 1998. К проблеме группировки геоархеологических объектов Байкало-Енисейской Сибири // Палеоэкология плейстоцена и культуры каменного века Северной Азии и сопредельных территорий: материалы международного симпозиума. Т. 2 / Отв. ред. А. П. Деревянко. Новосибирск: Наука. С. 148-159.
- Медведев Г. И., Несмеянов С. А., 1988. Типизация "культурных отложений" и местонахождений каменного века // Методические проблемы археологии Сибири / Отв. ред.: Р. С. Васильевский, Ю. П. Холюшкин. Новосибирск: Наука. С. 113-142.
- Память почв: Почва как память биосферно-геофизико-антропосферных взаимодействий / Отв. ред.: В. О. Таргульян, С. В. Горячкин. М.: ЛКИ, 2008. 692 с.
- Полевая археология древнекаменного века. М.: Наука, 1990. 120 с. (КСИА; вып. 202.)
- Сорокин А. Н., 2000. Парадоксы источниковедения мезолита Восточной Европы // ТАС. Вып. 4. Т. 1 / Ред. И. Н. Черных. Тверь: Тверской гос. объед. музей. С. 37-48.
- Сорокин А. Н., 2003. Природные процессы и их роль в "контактах" древнего населения // Контактные зоны Евразии на рубеже веков. Самара: Самарский обл. ист.-краевед. музей. С. 53-57.
- Сорокин А. Н., 2006. Проблемы мезолитоведения. М.: Гриф и К. 214 с.
- Сорокин А. Н., 2007. Природная процессы и их роль в культурогенезе // Влияние природной среды на развитие древних сообществ: материалы науч. конф. / Отв. ред. В. В. Никитин. Йошкар-Ола: Марийский НИИ языка, литературы и истории. С. 34-41.
- Сорокин А. Н., 2012. Многослойные памятники Русской равнины: состояние и перспективы // Феномен геоархеологической многослойности Байкальской Сибири. 100 лет Байкальской научной археологии: материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня открытия Б. Э. Петри Улан-Хады. Иркутск: ИГУ. С. 205-218. (Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры; вып. 1).
- Сорокин А. Н., 2013. Пролог. М.: ИА РАН. 144 с.
- Сорокин А. Н., 2016. Очерки источниковедения каменного века. М.: ИА РАН. 248 с.
- Сорокин А. Н., 2017. Шагара 4 как геоархеологический источник. М.: ИА РАН. 216 с. (Материалы охранных археологических исследований; т. 20.)
- Сычева С. А., Леонова Н. Б., 2004. Основные понятия и термины // Естественнонаучные методы исследования культурных слоев древних поселений. М.: НИА-Природа. С. 9-21.
- Сычева С. А., Леонова Н. Б., Александровский А. Л., Водяницкий Ю. Н., Гольева А. А., Зазовская Э. П., Карфу А. А., Каздым А. А., Ковалюх Н. Н., Курочкин Е. Н., Маркова А. К., Николаев В. И., Пустовойтов К. Е., Рысков Я. Г., Седов С. Н., Скрипкин В. В., Скрипникова М. И., Сычевская Е. К., Чепалыга А. Л., Чичагова О. А., 2004. Естественнонаучные методы исследования культурных слоев древних поселений. М.: НИА-Природа. 162 с.
- Сычева С. А., Леонова Н. Б., Узянов А. А., Александровский А. Л., Пустовойтов К. Е., 1998. Руководство по изучению палеоэкологии культурных слоев древних поселений. М.: ИГ РАН. 59 с.
- Чернышева Е. В., Борисов А. В., Коробов Д. С., 2016. Биологическая память почв и культурных слоев археологических памятников. М.: ГЕОС. 240 с.
- Rankama T., 1995. Site formation processes and vertical stratigraphy in Finland // Papers of Sartryck ur Finskt Museum. Sartryck. P. 56-78.
- Vermeersch P. M., 1999. Postdepositional Processes on Epipalaeolithic and Mesolithic Site in the Sandy Area of Western Europe // L'Europe des derniers chasseurs: Epipaleolithigue et Mesolithique: Actes du 5-e Colloque international UISPP (Grenoble, 18-23 Septembre 1995) / Eds.: A. Trevenin, P. Bints. Paris: Editions du CTHS. P. 159-166.
- Wood W. R., Johnson D. L., 1978. A survey of disturbance processes in archaeological site formation // Advances in Archaeological Method and Theory / Ed. M. B. Schiffer. New York: Academic Press. Vol. 1. P. 315-381.