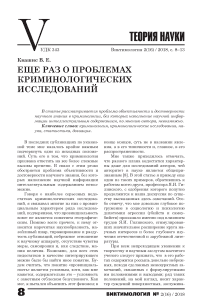Еще раз о проблемах криминологических исследований
Автор: Квашис В.Е.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Теория науки
Статья в выпуске: 2 (16), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема объективности и достоверности научного знания в криминологии, без которых наполнение научной информации интеллектуальным содержанием, по мнению автора, невозможно.
Криминология, криминологические исследования, наука, статистика, девиация
Короткий адрес: https://sciup.org/14118670
IDR: 14118670 | УДК: 343
Текст научной статьи Еще раз о проблемах криминологических исследований
В последних публикациях по указанной теме мне казалось крайне важным подчеркнуть одно из исходных положений. Суть его в том, что криминология призвана ответить на все более сложные вызовы времени. В связи с этим резко обостряется проблема объективности и достоверности научного знания, без которых наполнение научной информации интеллектуальным содержанием невозможно.
Говоря о наиболее серьезных недостатках криминологических исследований, я связывал многие из них с провинциальным характером ряда исследований, подчеркивая, что провинциальность вовсе не является понятием географическим. Помимо всего прочего, к нему относятся нарочитая наукообразность, назойливый пиар, тиражирование и раздутость публикаций, небрежное отношение к научному аппарату, отсутствие чувства меры, самоиронии и, как следствие, мания величия. Возможно, для всех этих недостатков в качестве интегрирующего можно было бы найти иное понятие. Будем считать, что понятие «провинциальность» является условным, хотя, как мне кажется, содержательно это – условность с заметным отблеском безусловного. Как мог, я пытался объяснить этот феномен; в 8
конце концов, суть не в названии явления, а в его типичности и, главное, в его распространенности.
Мне также приходилось отмечать, что разного плана недостатки характерны даже для исследований авторов, чей авторитет в науке является общепризнанным [8]. В этой статье я приведу еще один из таких примеров, обратившись к работам моего друга, профессора Я.И. Ги-линского, с одобрения которого попутно продолжится и наша дискуссия по существу высказанных здесь замечаний. Особо отмечу, что мое довольно глубокое погружение в социологию и психологию дихотомии агрессии (убийств и самоубийств) произошло именно под влиянием трудов Я.И. Гилинского, стимулировавших значительное расширение круга научных интересов и более глубокого изучения отечественной и зарубежной литературы.
При всем непреходящем уважении к творчеству и научным заслугам маститого ученого следует признать, что в его работах содержится россыпь довольно небрежных, походя сделанных неаккуратных замечаний, связанных с формулируемыми им положениями и выводами; ряд таких положений, на мой взгляд, носит характер суждений поверхностных, заслужива- ющих критического анализа, продолжения дискуссии, уточнения и определенной коррекции. Стоит заметить, что и сам автор в своих более поздних работах, пусть и довольно кокетливо, говорит об «относительно поверхностном рассмотрении темы» [4, c.163] («относительно» – вообще один из наиболее часто употребляемых им терминов). Таких суждений, на самом деле немало, и к сожалению, они кочуют из одной работы в другую.
Среди рассматриваемых автором разных форм девиантного поведения для меня наибольший интерес представляют те разделы многочисленных трудов ученого, которые связаны с объяснениями по поводу меняющейся динамики убийств и самоубийств. Здесь автор, как бы между прочим, замечает, что оба явления имеют «относительно низкую латентность» [4, c.431]. Термин «относительно» здесь ничего не дает (один из персонажей фильма «17 мгновений весны» верно заметил, что ясность – одна из форм полного тумана). Это мнение Я.И. Гилинского, как показывает целый ряд медицинских, демографических и криминологических исследований является ошибочным. Для современного социолога и особенно для криминолога это очевидно. Реальная картина убийств иная и куда более драматичная, чем это показывает официальная статистика, а различные формы манипуляции с этой статистикой хорошо известны. Статистика самоубийств также является далеко не полной и по разным причинам искаженной. Известно, и то, как убийства и самоубийства маскируются друг под друга и потому «на выходе» медицинской, демографической и уголовной статистики мы имеем разную статистическую картину смертности, ее причин, числа убийств, числа погибших и т. д.
В ряде случаев, особенно когда речь идет о самоубийствах, автор абсолютизирует результаты статистического и корреляционного анализа на основе собранного эмпирического материала. Тем более, что часть из них базируется на данных 1990 х годов и не учитывает произошедшие с тех пор значительные изменения современной реальной жизни. Это касается, например, переоценки значимости такого фактора, детерминирующего суицидальное поведение, как уровень образования, не совсем корректного противо- поставления частоты суицида среди интеллигенции и «белых воротничков», абсолютизации роли социального неравенства, расслоения населения и их прямого влияния на динамику самоубийств и убийств. Наш анализ медицинской, демографической и криминологической статистики и практики регистрации этих фактов с начала 2000х годов на федеральном, региональном и локальном уровне показывает несколько иную картину [см. табл. 1]. Чем объяснить, например, что в Северо-Кавказском федеральном округе, например, уровень расслоения населения и социального неравенства один из самых высоких, а уровень и число убийств в регионе – одни из самых низких в стране? Чем объяснить, что в Адыгее, например, еще несколько лет назад снижение числа самоубийств шло не на фоне снижения, а, наоборот, на фоне заметного роста безработицы? Вероятно, не все так однозначно и просто и не все и не всегда такого рода связи носят линейный характер.
Я.И. Гилинский неоднократно указывает, что уровень убийств и самоубийств – величины для каждой страны стабильные. В основном такие не слишком аккуратные заключения делаются с опорой на статистику XIX, либо середину XX века. Такого рода суждения (без соответствующих оговорок) следует признать, как минимум, не совсем точными. В России, например, в середине 1990-х годов за 10 лет уровень убийств вырос в три раза, а в последующие 10 лет снизился в два раза; в тот же период уровень самоубийств вырос в два раза, а в последующие десять лет снизился более, че в два раза. А, скажем, в Японии за 20 лет уровень убийств снизился в пять раз, а число убийств почти в 1,7 раза; схожая картина и в динамике самоубийств. О какой стабильности может идти речь, когда показатели резко растут или падают даже в «соседние» годы? А главное, тезису Я.И. Гилинского противоречат и современные тенденции в динамике названных явлений. Укажем, например, на данные демографической статистики в России за последние 12 лет [6].
Практически на те же тенденции указывают абсолютные и относительные показатели статистики убийств и самоубийств (в обоих случаях их число и их уровень, как уже отмечалось, в современ- 9
Таблица №1
Доля убийств и самоубийств среди внешних причин смертности
Во многих случаях автор либо ограничивается констатацией статистической картины убийств и самоубийств, либо без намека на объяснения утверждает что тенденции в их динамике зависят от тех или иных социальных условий. Так, говоря, например, о тенденциях самоубийств в России в 1980–1990 гг., автор настаивает на том, что их динамика «очень наглядно демонстрирует зависимость от социально-политических условий» [3, c. 180]. Приводимые для каждого выделенного им периода современной российской истории показатели самоубийств, разумеется, разные, они то растут, то снижаются, но автор никак не объясняет, в чем именно в каждом отрезке (эта «очень наглядная связь» выражается, почему эти показатели росли в годы «застоя», затем снижались в годы «перестройки», потом вновь росли в период «постперестройки» и, наконец, стали снижаться с начала 2000-х годов. Объяснений, даже «относительно поверхностных» нет.
Обратимся теперь к расхождениям концептуального плана. В социологии есть такое понятие, как «двойной климат мнений», когда человек, увлекшись какой-то своей идеей, сознательно или на уровне бессознательного не хочет замечать другой позиции, других сторон явления; он видит только то, что хочет видеть и во что верит. Так, идея о взаимосвязи (корреляции, взаимозависимости)
убийств и самоубийств настолько глубоко вошла в сознание Я. И. Гилинского, что он говорит о ней как об аксиоме, постоянно ссылаясь при этом на труды К. Маркса, Э. Дюркгейма и др. авторов. Такого рода ссылки делаются как бы между прочим, поскольку речь идет о вещах, якобы, общеизвестных, либо о том же говорится, поход я или в скобках [См.: 1, c. 90, 391], 10
ни разу не упомянув об источниках, где прямо указывается, что никакой связи между динамикой этих явлений на самом деле нет. Э. Дюркгейм, например, писал о связи динамики самоубийств с другими социальными процессами, но он не связывал их динамику с динамикой убийств. Более того, еще в 1897 году Э. Дюркгейм вынес этой гипотезе убедительный приговор. «Истина, – писал он, – заключается в том, что здесь нет ни прямого, ни обратного отношения. Если в некоторых случаях оба явления уживаются друг с другом, то в других они находятся в явном антагонизме» [7, c. 349].
Надо сказать, что еще в середине XIX века вопрос о взаимосвязи указанных явлений служил предметом довольно острой научной полемики (Ч. Ломброзо, Э. Ферри, Э. Морселли и др.). Э. Ферри, например, ссылаясь на статистику некоторых стран, утверждал, что ход самоубийств противоположен ходу убийств, что первое везде и всегда служит дополнением или противодействием второму; он считал, что для всех государств и во все периоды кривые этих двух явлений противопоставлены друг другу и когда одна из них поднимается, другая, наоборот, идет вниз.
На примерах статистики Пруссии, Англии, Бельгии и Франции французский социолог Габриэль де Тард (за 10 лет до Э. Дюркгейма) показал ошибочность указанной концепции; в 1886 году он первым (о чем нигде не упоминается) показал, что вовсе не всегда и не во всех государствах тенденции в динамике убийств и самоубийств противостоят друг другу. «Самоубийство, – писал Г. Тард, – есть одна из форм невыносимого отчаяния, а убийство – одна из форм эгоизма. Но развитие эгоизма и развитие отчаяния не совпадают. Первое может расти без уменьшения второго, но различные формы, в которые каждый из них может облечься с ходом социального прогресса, могут совпадать между собой» [10, c. 327]. Объясняя рост самоубийств исключительно причинами социальными, он сделал категоричный вывод о том, что «прогрессия самоубийств вовсе не связана с пропорциональным уменьшением убийств и других преступлений против личности» [10, c. 331]. Поразительно, но факт – современные социологи и криминологи в историю этой дискуссии не вдавались.
Реинкарнация этой давней идеи в середине 1950-х годов связана с именами американских социологов Э. Генри и Д. Шорта. Заимствовав у психоанализа концепцию агрессии, они (как и Э. Ферри) утверждали, что когда в обществе снижается количество убийств, кривая суицида идет вверх. Объясняли они такую взаимосвязь тем, что в стабильном, организованном обществе, агрессия, направленная вовне, не находит выхода и «пе-реадресуется» внутрь; поэтому в социально «благополучных» странах проявлений суицида в несколько раз больше, чем в «неблагополучных», где неоднородность и дезорганизованность среды «помогает» человеку крепче держаться за свою жизнь. Мировая статистика конца ХХ и начала XXI века и последующие социологические исследования убедительно доказали несостоятельность этой пара-научной теории. Что касается стран «благополучных» и не очень скажу так: поскольку в США и в Великобритании уровень суицида на протяжении многих лет в 2–3 раза ниже, чем, скажем, в Японии или в России, признать, что общество в Великобританию или в США более «дезорганизованное», вероятно, трудно.
Теория Э. Генри и Дж. Шорта строилась на том, что убийство и самоубийство – две формы агрессии на почве фрустрации. Я. И. Гилинский по этому поводу писал: «Это очень перспективная идея (на связь убийств и самоубийств указывали К. Маркс, Э. Дюркгейм), развиваемая западной и отечественной суицидологией» [4, c. 391]. Вначале о том, что сказано в скобках. Частично об этом уже упоминалось, когда речь шла о позиции Э. Дюркгейма.
На самом деле, даже если признавать общность этих явлений (в чем у меня, например, большие сомнения), их общность и некоторое сходство вовсе не означают наличие меду ними взаимосвязи и взаимозависимости приписываемых Э. Дюркгейму, который, как отмечалось выше, эту взаимосвязь исключал. Что же касается ссылки на К. Маркса, то в известной ста- тье, о которой идет речь («Смертная казнь….») нет ни слова, ни даже намека о связи самоубийств и убийств; в ней говорится лишь о связи каждого из этих явлений с практикой смертной казни, что, понятно, не одно и то же.
Мне кажется, что именно названная теория способствовала формированию убежденности Я.И. Гилинского в дихотомии агрессии и в существовании такой взаимосвязи. И никакие доводы противников этой позиции (он в своих работах их называет, но об их отрицательном отношении к этой идее почему-то не упоминает) поколебать эту веру не смогли. Между тем речь идет не о голословных заключениях, а о серьезных эмпирических исследованиях. Одно из них – весьма оригинальное исследование самоубийств в 69 городах России С.Г. Смидо-вича, в итоге которого «между уровнем самоубийств и убийств корреляционной связи не было выявлено» [9, c.79]. (К этому надо добавить, что именно работа С.Г. Смидовича оказала заметное влияние на используемые Я.И. Гилинским терминологический аппарат и методику анализа). Спустя 25 лет исследование социолога Е.Е. Демидовой, выполненное на основе материалов мировой статистики, «показало полное отсутствие связи» между уровнем убийств и уровнем самоубийств (коэффициент корреляции составил – 0,09 и – 0,06) [5, c. 17].
По–разному интерпретируя понятие «интегрального индикатора уровня социальной патологии» (С.Г. Смидович), и используя термин «коэффициент насилия», Я. И. Гилинский еще 20 лет назад решил применить отношение – частное от деления уровня убийств на уровень самоубийств в качестве одного из показателей, характеризующих степень социального благополучия (или неблагополучия) общества [2, c. 67-68]. Здесь нет возможности подробно останавливаться на политико-криминологических заключениях автора, вытекающих из таких расчетов. Они, по–нашему убеждению, заведомо наивны и ошибочны, поскольку изначально порочна сама идея «индекса насилия». Ибо как нельзя складывать (как С.Г. Смидович), так и нельзя делить (как Я.И. Гилинский) «круглое» и «зеленое» и на этой основе делать выводы о влиянии социально-экономических условий на ухудшение ситуации в обществе, об уров- 11
не его благополучия и т.д. Такого рода расчеты и оценки более 20 лет ходят из работы в работу уважаемого ученого, со временем меняя характер «изобретения» на более скромную «гипотезу». Справедливости ради отметим, что в последнем издании «Социального насилия» Я.И. Гилинский написать о своем давнем «от- крытии» либо забыл, либо, хочу надеяться, наконец-то его критически переосмыслил. И правильно сделал, ибо в его фундаментальных и важных для криминологии и социологии трудах и без того хватает пассажей, где большому ученому и увлеченному человеку не всегда хватает самоиронии. Бывает, я и сам такой.
Список литературы Еще раз о проблемах криминологических исследований
- Гилинский Я. И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». - СПб., 2013.
- Гилинский Я. И. Криминология. Теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. Курс лекций. - СПб., 2002.
- Гилинский Я. И. Социальное насилие. - СПб., 2017.
- Гилинский Я.И. Социальное насилие. - СПб., 2013.
- Демидова Е.Е. География социальных девиаций: постановка проблемы, примеры региональных исследований // Региональные исследования. - 2015. - №3 (49).
- Демографический ежегодник России. М., Росстат, 2015, 2017; Демоскоп Weekly, № 771-772, 21 мая - 3 июня 2018 года.
- Дюркгейм, Э. Самоубийство. Социологический этюд. - М., 1994.
- Квашис В. Е. Проблемы качества криминологических исследований: истоки и симптомы болезни // Журнал российского права. - 2018. - №6.
- Смидович С.Н. Самоубийства в зеркале статистики// Социологические исследования. - 1990. - №4.
- Тард, Г. Преступник и преступление. Сравнительная преступность, Преступления толпы. (составитель. и предисл. - В. С. Овчинский). - М., 2009.