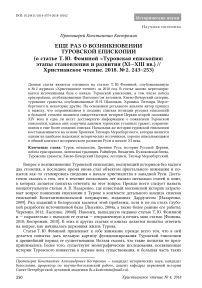Еще раз о возникновении Туровской епископии (о статье Т. Ю. Фоминой "Туровская епископия: этапы становления и развития (ХI-ХIII вв.) // Христианское чтение. 2018. № 2. 243-253)
Автор: Костромин Константин Александрович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 4 (81), 2018 года.
Бесплатный доступ
Данная статья является откликом на статью Т. Ю. Фоминой, опубликованную в № 2 журнала «Христианское чтение» за 2018 год. В статье заново пересматривается источниковая база о начале Туровской епископии, в том числе noticia episcopatuum, опубликованные Darrouses'ом летописи, Киево-Печерский патерик, туровские грамоты, опубликованные Я. Н. Щаповым, Хроника Титмара Мерзебургского и некоторые другие. На основании детального анализа автор пришел к выводу, что сохранившиеся в поздних списках нотиции русских епископий в большей степени являются свидетельством истории Церкви второй половины ХIV века и едва ли несут достоверную информацию о появлении Туровской епископии, однако они созвучны данным туровских уставных грамот, сохранившихся в еще более поздних списках. Начальная же история туровской епископии восстанавливается на основе Хроники Титмара Мерзебургского, которая является одним из наиболее надежных исторических источников, хорошо вписывающаяся в общий контекст исторического развития Руси в начале ХI века
Туров, епископия, древняя русь, история русской церкви, латинская традиция, райнберн, византия, куликовская битва, туровские грамоты, киево-печерский патерик, летописи, титмар мерзебургский
Короткий адрес: https://sciup.org/140246608
IDR: 140246608 | DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10102
Текст научной статьи Еще раз о возникновении Туровской епископии (о статье Т. Ю. Фоминой "Туровская епископия: этапы становления и развития (ХI-ХIII вв.) // Христианское чтение. 2018. № 2. 243-253)
Вопрос о возникновении Туровской епископии, волнующий историков без малого два столетия, в последнее время вновь стал объектом пристального внимания и попыток как–то суммировать сведения о начале христианства в западной Руси. Достаточно сказать о том, что в течение нескольких лет вышло несколько статей и книг, в которых делается попытка ответить на этот вопрос. Прежде всего следует назвать концептуальную статью А. В. Назаренко, где известный московский историк затрагивает вопрос появления епископии в Турове в контексте детального анализа списков епископий Константинопольской патриархии, изданных Даррузесом [Назаренко, 2009]. Ряд изданий в Белоруссии касается этой проблемы, хотя и не на столь глубокой разработке источниковой базы [Лысенко, 2004а, а также более ранние его работы; Черемин, 2012; Лысенко, 2004б]. Наконец, вышедшую недавно статью Т. Ю. Фоминой и — параллельно с выходом ее статьи — отправленную в печать мою статью [Фомина, 2018; Костромин, 2018]. В этих и других статьях и книгах делается попытка ответить на вопрос, как начиналась церковная жизнь Турова.
Статья Т. Ю. Фоминой привлекает к себе внимание прежде всего тем, что в ней делается попытка дать цельную картину функционирования Туровской епископии в древнейший период ее существования. Нельзя сказать, что такие попытки не предпринимались. Более того, существуют монографические исследования, посвященные истории Туровского княжества в первые века существования, и большая часть таких
исследований известна Татьяне Юрьевне. Таким образом, можно утверждать, что принципиальную новизну в изучение подобного рода проблем может внести только привлечение либо нового исторического материала (что едва ли возможно), либо нового подхода или методологии. Т. Ю. Фомина имеет большой опыт изучения древнерусских епископий. Однако, на наш взгляд, статья стала не столько новым словом в науке, сколько подведением итогов научной дискуссии, тоже весьма полезным.
Структура статьи очень прозрачна и требует комментария. Каждый абзац отвечает на конкретный вопрос. Однако не всегда это кажется уместным. Так, в первом абзаце излагается краткая история княжений в Турове в ХI — начале ХIII веков. Однако, думается, намного удачнее было бы вписать эпизоды княжеской истории в историю развития епископии, так как уже доказано, что именно епископии зависели от княжеской власти, но не наоборот, и нельзя утверждать независимости церкви на Руси от княжеской власти. Именно поэтому на вопрос, почему, в связи с упоминанием Туровских грамот и отмеченным в них основанием Туровской епископии под 6513 годом (обращаем сразу внимание, что нам неизвестно, в какой хронологической эре написано это свидетельство), нет сведений о Туровской епископии вплоть до начала ХII века, Т. Ю. не имеет четкого ответа. А ведь история развития дома Рюриковичей дает ответ на этот вопрос. После крещения князь Владимир рассаживает своих сыновей на княжения «по периметру» Руси (в Тмутаракани, в древлянах, Турове, в Новгороде, в Пскове, в Ростове, в Муроме…), а в тех городах, где, по выражению самой Татьяны Юрьевны, сформирована «церковная инфраструктура» [Фомина, 2018, 244], создаются епископии. К их числу должен относиться и Туров.
В обзорной книге А. А. Черемина есть напоминание о том, что в 960–980 годах Туров находился под властью польских князей из династии Пястов. Такой хронологический блок он выделяет на том основании, что путь княгини Ольги, изгнанной в Полоцк, должен был пролегать через Туров, а в 981 году князь Владимир захватил червенские города, среди которых географически должен был находиться и Туров. В связи с этим автор также касается вопроса о христианизации Польши по латинскому обряду [Черемин, 2012, 19–20, 27–28]1. Напрашивается заключение, что латинская миссия, работавшая во всех крупных городах Польши, не могла не затронуть Туров, так что к моменту захвата его князем Владимиром Туров должен был уже иметь латинское духовенство, подчиненное затем Гнезненской архиепархии. Так что появление здесь епископа Райнберна, о котором сообщает Титмар Мерзебургский (Титмар, 2009, 162–163), и упомянуть которого, к сожалению, забыла Т. Ю. Фомина, не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Более того, получается, что подчинение Туровской епископии Гнезненской архиепархии, о котором я уже писал [Костромин, 2016, 104–114], имеет более глубокие корни и было более чем естественным на начальном этапе формирования церковно-иерархической структуры Русской Церкви. И именно появление Райнберна во главе туровской епископии (или пинской, что не столь уж принципиально [Рапов, 1988, 367–369]) нужно связывать с появлением феномена туровской грамоты о десятине (хотя сам текст и более позднего происхождения). О десятине говорится в статье Т. Ю. Фоминой [Фомина, 2018, 244], однако без конкретного контекста, в то время как десятина имеет прямые параллели и, возможно, происхождение из латинской Европы [Костромин, 2014]. Возможно, именно с этой страницей истории Турова нужно связывать появление здесь т. н. «туровских крестов», которые совсем недавно, только с начала 1990-х годов, постепенно вводятся в научный оборот археологами, которые успели сделать общие описания и предположения лишь по некоторым из них [Рассадин, 2015]. Интерпретировать появление данных артефактов очень сложно, однако, если они действительно относятся к концу Х — началу ХI веков и не связаны с языческими культами варягов или славян, о чем иногда писали археологи, то, возможно, их появление нужно связывать с сотрудничеством между варяжскими князьями, имевшими связи вплоть до Ирландии, и местным латинским духовенством [см.: Симонова, 2017, 175–192].
Вопрос об имени первого епископа, согласно Туровской уставной грамоте, мы пока оставим в стороне. Можно считать, что первым епископом был все-таки Райнберн, а его поставление хронологически совпадает с датой, указываемой в Туровской грамоте [Костромин, 2018]. Какой должна была быть судьба Турова и Туровской епископии после смерти Райнберна в заточении и после бегства Святополка из Руси? Поскольку в эмиграцию уехали все те, кто поддерживал Святополка и был проводником латинской или пролатинской церковной политики на Руси — как Анастас Корсунянин, перебравшийся в Польшу (ПВЛ, 1999, 63), — туровская епископия должна была автоматически исчезнуть. Если вспомнить, что после восстановления полного контроля над Киевом Ярослав допустил переосвящение Десятинного храма (ПВЛ, 1999, 67) [Приселков, 2003, 52–55], следовательно, за время его правления восстановления статуса Туровской епископии произойти не могло. Едва ли этого можно ждать и от его ближайших потомков, поскольку самый прозападный князь, Изяслав Ярославич, сидел в Киеве [Костромин, 2013, 126–128]. Следовательно, возобновление епископии следует относить либо ко временам сыновей Изяслава Ярославича, занявшим Туровский престол (что более вероятно), либо ко временам, когда Туров стал одним из уделов, контролировавшихся киевскими князьями (второстепенный характер города делает менее вероятным возобновление епископии в это время).
И, конечно, именно в контекст этих событий нужно поставить интерпретацию списков Константинопольской патриархии, опубликованных Даррузесом, и попытаться из русских источников восстановить имена и очередность первых епископов Турова. К сожалению, Т. Ю. Фомина только упоминает о наличии туровской еписко-пии в этом списке под номером 8. Однако помещение туровской епископии именно под 8–м номером может дать кое–какую информацию о том, когда она была создана. Это пытались выяснить отечественные исследователи — Я. Н. Щапов и А. В. Назаренко [Щапов, 1989, 42–43; Назаренко, 2009, 180–195], на основании публикаций критического издания списков Жана Даррузеса [Darrouzes, 1981, 367]. Думается, что для цели, которую поставила перед собой Татьяна Юрьевна, важно как попытаться резюмировать мнения коллег по этому вопросу, так и попытаться самостоятельно осмыслить сам факт помещения туровской епископии в список № 13.
А между тем вопрос может оказаться куда более сложным, чем кажется. Рискну высказать пару соображений по этому поводу. Первое основывается только на том факте, что Туров упоминается не только в нотиции 13 [Darrouzes, 1981, 367], но и в но-тиции 17 [Darrouzes, 1981, 403]. Обращает на себя внимание тот факт, что в обоих списках не только сама туровская епископия занимает разное — 8–е и 18–е места соответственно, но и сам порядок епископий в списках принципиально разный. Нет оснований считать, что списки 13 и 17 формировались по разному принципу. А это заставляет думать, что принцип выстраивания епископий в списке совершенно не тот, который пытались реконструировать Я. Н. Щапов и А. В. Назаренко. Они, несколько по-разному, исходили из мысли, что епископии вносились в список по мере их создания (по крайней мере, такова исходная позиция их рассуждений, хотя двигаясь сходным путем и устраняя логические и исторические препятствия, возникающие при таком логическом пути рассуждений, они пришли к разным выводам). Однако если предполагать, что принцип формирования списка изначально был одинаков, а сами списки при этом принципиально различны, значит, 8-е место в списке 13 отражает не указание на временной (в рамках относительной хронологии) маркер создания епископии, а что–то иное. Глядя на список 13, трудно усмотреть в нем географическое основание, если только не предположить, что епископии в нем расположены по мере распределения их по городам, в которых правят княжеские семейные кланы (сразу обращу внимание, что епископии в ХII веке создавались исключительно в городах, принадлежавших клану Мономашичей; в землях, контролировавшихся другими потомками Ярослава — Изяславичами и Святославичами, — епископии не возникали;
за исключением, пожалуй, галицкой епископии, возникшей при Ярославе Осмомыс-ле). Однако этот принцип будет едва ли просматриваться в списке 17 (сам порядок: Киев, Великий Новгород, Чернигов, Суздаль, Ростов и т. д. — не демонстрируют ни географической, ни политической логики). Отсекая одну логическую линию за другой, мы вынуждены будем признать, что единственной остающейся логической возможностью является та, согласно которой епископии выстроены по принципу интереса к ним со стороны либо митрополита (что едва ли), либо константинопольской патриархии, в соответствующий момент времени. Для списка 13 это начало ХIII века (вероятно, все–таки, до захвата крестоносцами Константинополя, если достоверно свидетельство Типографской летописи о первом епископе Владимира Волынского Иоанне [ПСРЛ, Т. 24, 86]), когда Туров, Канев, Смоленск и Галич представляли собой куда меньший интерес для Византии, чем Чернигов, Полоцк или Владимир Волынский. А для списка 17 это середина — вторая половина ХIV века, когда западнорусские епископии — Галич, Владимир, Перемышль — находились в упадке, а Новгород, Чернигов, Суздаль и Ростов, наоборот, находились на подъеме.
Второе соображение основано на том обстоятельстве, что списки русских еписко-пий в обоих случаях находятся не в основном блоке, а в аппендиксах, которые есть не во всех рукописях, содержащих данные нотиции. Так, из всех рукописей, содержащих 13-ю нотицию, перечень русских епископий имеется только в списке А, который (!) создан в конце ХIV века [Darrouzes, 1981, 353], а из всех рукописей, содержащих нотицию 17, только в рукописях A1, D1, C1=A2, C2, P2, R2, X2, т. е. тоже в рукописях, самое раннее, второй половины ХIV века [Darrouzes, 1981, 391–392]! Возникает вопрос: а почему перечень русских епископий отсутствует в списках более ранних, в которых нотиция 13 есть, т. е. в списках рубежа ХII–ХIII веков? Может быть, в тот момент этот перечень был неактуален? А в конце ХIV века, когда вопрос о русской митрополии решал такой авторитетный человек как митрополит Киприан, не желавший разделения митрополии на две части и фактически отстоявший ее почти на полвека [Прохоров, 2000], возникла надобность в списках русских епископий, причем таких, в которых епископии севера (тяготевшие к Владимиру Великому, обозначенному в нотиции 17 под номером 6, а в нотиции 13 обозначенному как Суздаль и стоящему почему-то под номером 7, т. е. раньше Турова) были перемешаны с епископиями юга (Чернигов, Переяславль, Галич), принадлежавшими в тот момент Литве.
Возникает резонный вопрос: не являются ли списки русских епископий источником в большей степени по истории Церкви эпохи Куликовской битвы, нежели домонгольской Руси? На эту мысль наводят и некоторые названия епископий. Так, Юрьевская епископия названа Каневской, в то время как Канев впервые упоминается не ранее 6652 (1144) года [ПСРЛ, Т. 1, 312; ПСРЛ, Т. 2, 317]. Оба титула — Юрьевский и Каневский — перемежаются в середине ХII века [Грюнберг, 2006, 53–54; там же ссылки на летописи]. Однако вновь вопрос стал актуальным после битвы у Синих вод 1362 года и присоединения Подолья к Литве войсками Ольгерда [Шабульдо, 2013; там же историография проблемы]. Еще более говорящим является применение топонима «Суздаль», в отношении которого характерна оговорка А. В. Назаренко: «на месте выпадающего из этого ряда [существительные среднего рода с артиклем или без него — КК] “ὁ τοῦ Σούσδαλι” (топоним в несклоняемой форме, копирующей русскоязычный оригинал с еще звучавшим финальным —ь) ранее стояло, вне сомнения, “ὁ [θρόνος] τοῦ Ῥοστόβου”…» [Назаренко, 2009, 190], который так и не объяснил, почему Ростов или Владимир Залесский оказались заменены здесь Суздалем, который не имел своей кафедры вплоть до 1330 года [Бибиков, 2004, 554]. Если не считать упоминания Суздаля в аппендиксах списков, восходящих (с неизвестной степенью точности воспроизведения) к началу ХIII века, в греческих текстах он впервые упоминается как раз в связи с Куликовской битвой [Бибиков, 2004, 695], что, кажется, подтверждает точку зрения о корректировке списка в конце ХIV века, причем именно в той грамматической форме, в которой он упоминается в списках епископий [ср.: Бибиков, 2004, 695 и 696]. Интересно, что и Туров, если не считать его упоминаний в списках, также впервые греками упоминается в середине ХIV века, под 1347–1361 годами в той же грамматической форме, и через — ω под 1328 годом [Бибиков, 2004, 720]. Иными словами, поставление Турова на 8-е место в нотициях константинопольских епископий может не иметь значения при попытке извлечь из этого источника сведения о создании епископии.
Т. Ю. Фомина склонна этот сложный вопрос решать путем сличения сведений о начале туровской епископии и первых епископах Турова, которые встречаются в ряде справочных изданий — митр. Мануила (Лемешевского), П. Н. Грюнберга, А. Поппэ и архим. Николая (Трусковского) [Фомина, 2018, 244–245]. Однако стоило бы задаться вопросом о происхождении этих «энциклопедических» сведений. На поверку выясняется, что имена взяты из различных, некритически воспринятых источников.
Есть и еще один любопытный пример соотношения проблем историографии и источниковедения. Отождествление летописного епископа Кирилла, известного из статьи 6622, с епископом Турова по принципу «исключенного третьего» едва ли может быть веским аргументом, однако исследователи в целом приняли этот вывод. Однако любопытна контаминация, которую не заметил до сих пор ни один исследователь. Единственной кафедрой, вакантной на 6622 год, помимо Туровской, была кафедра Владимира Залесского, т. е. кафедра той земли, к которой принадлежал автор летописи. Автор Лаврентьевской летописи упоминает поставление некоего епископа Кирилла без привязки к какому бы то ни было контексту [Костромин, 2018]. Может возникнуть и иной вполне закономерный вопрос: а что связывало летописца или его заказчика—князя в Владимиро–Суздальской земле с далекой западной окраиной — Туровом? Применительно к 6622 году едва ли можно найти пример таких связей. Позднее, под 6654 в той же Лавреньевской летописи будет упомянут еще один туровский епископ — Аким [ПСРЛ, Т. 1, 314]. У этого упоминания (кстати, никак не связанного с упоминанием того же епископа в Ипатьевской летописи [ПСРЛ, Т. 2, 314]) есть контекст — борьба Юрия Владимировича Долгорукого за княжеский престол в Киеве, в результате которой произошло перемещение князей и епископов в некоторых княжествах западной Руси. Стало быть, претензии суздальских князей распространялись заметно дальше, нежели только на Киев, раз об этих событиях, важных для залесских князей, написал их придворный летописец. Так вот именно подобными же связями или, точнее, претензиями, можно объяснить удивительное созвучие «первого епископа» Владимира Залесского — Фомы и «первого епископа» Туровского Фомы из Туровской уставной грамоты [Карпов, 2016, 438; Щапов, 1965, 272], известной из редакции Киево–Печерского патерика середины ХVII века. Поскольку большинство исследователей видит в этом и иных документах Патерика, касающихся Турова, рациональное (т. е. историческое) зерно, однако затрудняется назвать место, время и обстоятельства появления оригинала данного памятника, не может быть странным, что автор летописного памятника середины ХVII века (или более раннего) о владимирской кафедре заимствовал и переинтерпретировал данные грамот или их общего источника. Если речь шла о новой интерпретации самих туровских грамот, то в таком действии нужно видеть политическую подоплеку, а если речь идет о заимствовании сведений из общего с грамотами источника, то, скорее всего, он был похож на летописную статью Лаврентьевской летописи о поставлении епископа Кирилла, предполагающую известную свободу в интерпретации, чем, кстати, весьма свободно пользовался автор Никоновской летописи. Аналогичную схему когда–то предложил М. Д. Приселков, пытавшийся объяснить сходство имен туровского епископа Симеона (см. ниже) и известного владимирского епископа Симеона. Эту интерпретацию Т. Ю. Фомина приводит в своей статье [Фомина, 2018, 245].
Однако первый упоминаемый в Лаврентьевской летописи достоверный туровский епископ Аким (в Ипатьевской летописи есть запись о его поставлении) — первая достоверная фигура на туровской кафедре — правил в середине ХII века. Представляется маловероятным, что он был первым епископом Турова после возобновления в нем епископии. Казалось бы, эта лакуна заполнена в более поздних по происхождению памятниках древнерусской письменности. В Никоновской летописи перечисляются некие туровские епископы: Феодосий, Антоний и Евфимий (ПСРЛ, Т. 9, ХХIII). В «Слове о Мартине мнисе, иже бе в Турове», сохранившемся только в составе Великих Миней Четьих митрополита Макария, упоминаются туровские епископы Симеон, Игнатий и Аким (БЛДР, Т. 12, 292). Если последнего идентифицировать с Акимом из ранних русских летописей, то прочие имена не могут быть ни интерпретированы, ни выстроены в достоверный ряд туровских святителей. Иными словами, сведения из справочных изданий, приводимые Т. Ю. Фоминой, едва ли можно назвать представляющими ценность. Наилучшей, однако все равно не исчерпывающей проблему, попыткой выстроить эти сообщения в непротиворечивый порядок является их обзор Г. Подскальски, сделанный, видимо, на основании рассуждений Я. Н. Щапова, который Т. Ю. Фомина, кажется, тоже не заметила [Подскальски, 1996, 58; Щапов, 1989, 42–43; Фомина, 2018, 244, 250]. Можно сказать, что проблема источниковедческая постепенно перекочевала в область историографическую, что глубоко неверно. Нужно искать возможности привлечения новых источников и методов их интерпретации, а не историографического комбинирования. А если уж говорить об историографии, то следует удивиться, — из поля зрения историков, как писавших еще в середине ХХ века (Я. Н. Щапов [Щапов, 1965]), так и современных, совершенно выпала замечательная статья «Туровские епископы», опубликованная в книге «Творения святаго отца нашего Кирилла, епископа Туровского с предварительным очерком истории Турова и туровской иерархии до ХIII века», издателем которого значится епископ Минский и Туровский Евгений, ставший Астраханским и Енотаевским [Евгений, 1880, ХХХIХ–LХХVIII].
Сделанные выше замечания, касающиеся интерпретации дошедших до нас исторических источников по истории Туровской епископии, в том числе очень критическое отношение к некоторым из них, не отвергают главного вывода Т. Ю. Фоминой о «сложности восстановления ее истории» [Фомина, 2018, 248]. Конечно, крайний недостаток исторических сведений о Турове вообще, и хотя бы фрагментарных, но надежных с точки зрения критики источника говорят о том, что в Турове отсутствовала литературная школа — в частности, местное летописание, — и появление там святителя Кирилла Туровского нужно считать явлением, из ряда вон выходящим. Однако при попытке заново осмыслить источниковую базу могут быть получены интересные результаты, если совместить выводы при анализе noticia episcopatuum и туровских грамот, опубликованных Я. Н. Щаповым. Если принять его вывод о том, что в основе туровских грамот по рукописи ХVII века лежит некая первооснова, относящаяся к 60– 70–м годам ХIV века [Щапов, 1965, 252–256], то возникает удивительная синхронная перекличка между упоминанием о создании туровской епископии в Южной Руси, сохранившимся в поздней редакции Киево-Печерского Патерика, и списков русских епископий константинопольской патриархии, также сохранившихся в рукописях второй половины ХIV века. Таким образом, начальная история туровской епископии оказывается еще более труднодоступной для исследователя, а сохранившиеся сведения оказываются в еще большей степени зависимы от политической ситуации эпохи Куликовской битвы.
Поэтому остается пожелать Т. Ю. Фоминой продолжать исследования в этом направлении, благо что они по-прежнему таят в себе массу неразгаданных загадок, приближение к которым, при тонком источниковедческом подходе, кажется вполне возможным.
Список литературы Еще раз о возникновении Туровской епископии (о статье Т. Ю. Фоминой "Туровская епископия: этапы становления и развития (ХI-ХIII вв.) // Христианское чтение. 2018. № 2. 243-253)
- Бибиков М. В. BYZANTINOROSSICA: Свод византийских свидетельств о Руси. Т. 1. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009.
- Библиотека литературы Древней Руси. Т. 12: ХVI век. СПб.: Наука, 2003.
- Повесть временных лет/Подг. текста, перев., статьи и комм. Д. С. Лихачева. Под ред. В. П. Андриановой-Перетц. СПб.: Наука, 1999.
- Полное собрание русских летописей. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Л.,1927.
- Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. СПб.,1908.
- Полное собрание русских летописей. Т. 9. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. М.: Языки русской культуры, 2000.
- Полное собрание русских летописей. Т. 24. Типографская летопись. М.:Языки русской культуры, 2000.
- Титмар Мерзебургский Хроника/Пер. с лат. И. В. Дьяконова. М.:Русская панорама, 2009.
- Щапов Я. Н. Туровские уставы ХIV века о десятине//Археографический ежегодник за 1964 год. М.: Наука, 1965. С. 252-273.
- Darrouzes J. Notitiae episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae.Paris, 1981.
- Туровские епископы//Творения святаго отца нашего Кирилла,епископа Туровского с предварительным очерком истории Турова и туровской иерархии до ХIII века/Изд. еп. Минским и Туровским Евгением, ныне Астраханским и Енотаевским. Киев, 1880.
- Карпов А. Ю. Русская Церковь Х-ХIII вв. Биографический словарь.М.: Квадрига, 2016.
- Костромин К. А. Церковные связи Древней Руси с Западной Европой (до середины XII в.). Страницы истории межконфессиональных отношений.Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2013.
- Костромин К., свящ. Происхождение и функция древнерусской церковной десятины и западноевропейские аналоги//Древняя Русь: во времени, в личностях,в идеях. Palaiorwsia: εν κρονω, εν προσωπω, εν ειδει. Альманах/Под ред. д.и.н.П. И. Гайденко. СПб.; Казань, 2014. С. 35-62.
- DOI: 10.24411/9999-0702-2014-00002
- Костромин К. прот. Князь Владимир и истоки русской церковной традиции: этюды об эпохе принятия Русью христианства. СПб.: Изд-во СПбПДА, 2016.
- Костромин К., прот. К вопросу о появлении Туровской епископии//Материалы Кирилло-Мефодиевских чтений. 2018. Минск, в печати.
- Лысенко П. Ф. Древний Туров. Минск, 2004.
- Лысенко П. Ф. К вопросу об учреждении туровской епархии//Восточная Европа в Средневековье: к 80-летию В. В. Седова. М., 2004. С. 27-32.
- Назаренко А. В. Территориально-политическая организация государства и епархиальная структура церкви в Древней Руси (конец Х -ХII век)//Назаренко А. В. Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования)/Древнейшие государства Восточной Европы. 2007 год. М.: Русский Фонд содействия образованию и науке, 2009. С. 172-206.
- Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси Х-ХII вв. СПб.: Наука, 2003.
- Прохоров Г. М. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Повесть о Митяе. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб.: Алетейя, 2000.
- Рапов О. М. Русская церковь в IХ -первой трети ХII в. Принятие христианства. М.: Высшая школа, 1988.
- Рассадин С. Е. Древнейшие каменные кресты Светлогорщины//Археологические исследования в еврорегионе «Днепр» в 2013 г. Брянск, 2015.С. 279-286.
- Симонова А. А. Древнерусское религиозное мировоззрение и ирландская христианская традиция: монография. М.: Прометей, 2017.
- Фомина Т. Ю. Туровская епископия: этапы становления и развития(ХI-ХIII вв.)//Христианское чтение. 2018. № 1. С. 243-253.
- Черемин А. А. Туровское княжество (Х-ХIV века). Минск, 2012.
- Шабульдо Ф. М. К итогам изучения синеводской проблемы//История и современность. 2013. № 1 (март). С. 69-89.
- Щапов Я. Н. Государство и церковь Древней Руси Х-ХIII вв. М.:Наука, 1989.