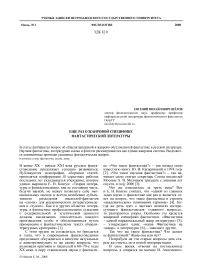Еще раз о жанровой специфике фантастической литературы
Автор: Нелов Евгений Михайлович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (91), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье разбирается вопрос об общелитературной и жанрово-обусловленной фантастике в русской литературе. Научная фантастика, литературная сказка и фэнтези рассматриваются как единая жанровая система. Выделяются доминантные признаки указанных фантастических жанров.
Фантастика, сказка, жанр
Короткий адрес: https://sciup.org/14749375
IDR: 14749375 | УДК: 82.0
Текст научной статьи Еще раз о жанровой специфике фантастической литературы
В конце XX – начале XXI века русское фанта-стоведение продолжает успешно развиваться. Публикуются монографии, сборники статей, проводятся конференции. В серьезных работах последних лет складывается убеждение, которое удачно выразила Е. Н. Ковтун: «Теория литературы и фантастоведение, как ее составная часть, будучи наукой, не может позволить себе эмоциональных оценок и всегда неизбежно субъективного разделения писателей-фантастов на «своих» для академического литературоведения и «чужих». Как и в других областях литературы, в фантастике профессиональное суждение о содержательной и эстетической ценности должны высказывать относительно каждого произведения особо и обосновываться путем применения к фантастическому тексту общелитературных критериев» [1].
С этим трудно не согласиться, но бросается в глаза, что в современном фантастоведении продолжают обсуждаться в качестве актуальных и животрепещущих те же самые вопросы, что волновали критиков и писателей в 60–70-е годы XX века, в пору становления науки о фантасти-
ке. «Что такое фантастика?» – так назвал свою известную книгу Ю. И. Кагарлицкий в 1974 году [2]. «Что такое научная фантастика?» – так начинает свою статью секретарь Союза писателей Москвы А. В. Молчанов тридцать с лишним лет спустя, в году 2006 [3].
Что же изменилось за треть века? Вот и Е. Н. Ковтун считает, что «одной из главных задач науки о фантастике как раз и является ответ на вопрос, что такое фантастика в строгом «академическом» понимании термина» [4]. Когда же речь идет о частных аспектах интересующего фантастоведов «главного вопроса», то разгораются споры. Особенно это касается жанровой специфики фантастики. «Фантастика – самый парадоксальный жанр литературы» [5], – утверждают одни; «наша Фантастика не «жанр», а литература» [6], – заявляют другие.
Так что же такое фантастика? Что делает ее фантастикой? Жанр она или нет?
Попробуем на эти старые вопросы дать старые же ответы, но в новой интерпретации.
В свое время, отвечая на поставленные вопросы, я опирался на мнение И. Анненского:
«"Что такое фантастическое, – писал в 1890 году И. Анненский. – Вымышленное, чего не бывает и не может быть". Это, вероятно, самое простое и в то же время достаточно полное определение фантастики» [7]. Примечательно, что в качестве «самого общего определения фантастики» Е. Н. Ковтун, ссылаясь на статью А. Палея «Научно-фантастическая литература» 1935 года, приводит именно эти слова И. Анненского. Таким образом, определение И. Анненского фигурирует в отечественной литературе о фантастике по крайней мере почти век и его можно считать общераспространенным. Правда, в отличие от Е. Н. Ковтун, сегодня я бы «усилил» формулировку знаменитого поэта и критика: фантастический вымысел «не может быть» вообще, в принципе, ни при каких условиях, ни в настоящем, ни в будущем.
Такой вымысел возник тогда, когда родилась фольклорная, прежде всего волшебная, сказка. Изображение принципиально невозможного в реальности – а именно такое изображение составляет первоначальную сущность фантастического – впервые (как особая поэтическая система) было разработано в жанровой парадигме фольклорно-сказочной семантики, воплощенной в специфическом корпусе сюжетов, восходящих, в конечном счете, к первобытному мифологическому наследию (но уже существенно переосмысляющих его с немифологических позиций).
Из этого исторического корня и вырастает многоцветное дерево литературной фантастики. У него два ствола: можно, с одной стороны, говорить о фантастике, обусловленной замыслом того или иного писателя (и тогда она – факт его творческой биографии, следствие особенностей его таланта и писательской индивидуальности), а с другой – в литературе появляются жанры, в которых фантастика присутствует независимо от желания автора, она предопределена самими требованиями жанра. В первом случае фантастическое носит факультативный характер (писатель волен использовать или не использовать фантастическую сюжетику и образность в своем произведении: он это решает сам в соответствии с замыслом), во втором же - фантастика жанро-во обусловлена и в этом качестве она не зависит от воли автора (написать фантастический роман без фантастики нельзя).
Итак, можно говорить о фантастике общелитературной (и мало кто из русских писателей ХIХ–ХХ веков не отдал ей дань!) и фантастике жанрово-обусловленной. Последняя и составит предмет наших дальнейших рассуждений. Сразу же надо оговориться, что термин «жанр», до сих пор вызывающий споры, в этих рассуждениях будет употребляться с известной долей условности. Мы будем исходить из общеупотребительного представления о том, что жанры определяются общностью и единством поэтической системы (в пропповском смысле слова). Разная степень и разное качество этих общности и единства объ- ясняют различие между родственными жанрами и в то же время позволяют их объединять в те или иные единые жанровые системы. С этой точки зрения волшебная сказка, сказка о животных, новеллистическая сказка и другие – самостоятельные фольклорные жанры, входящие в общую жанровую систему, которую представляет народная сказка в целом. Одним из главных факторов, придающих единство всей фольклорно-сказочной системе, является наличие фантастики как главного условия жанра.
В русской литературе процесс роста фантастики уже отчетливо заметен на рубеже ХVII– ХVIII веков, и связан он как раз с активным взаимодействием фольклорной сказки с различными повествовательными структурами. Жанрово же обусловленная фантастика впервые появляется, когда литературная сказка в 30-е годы ХIХ века приобретает в творчестве Пушкина статус жанра, после чего, так сказать, задним числом, довольно многочисленные сказочные тексты ХVIII века тоже получают соответствующую жанровую дефиницию. Вслед за литературной сказкой (и отчасти одновременно с процессом ее жанрового становления) в ХIХ веке начинают появляться и научно-фантастические произведения, однако как особый жанр научная фантастика в России оформится только в первой половине ХХ века, и лишь после такого оформления произведения, скажем, В. Одоевского, М. Михайлова, К. Случевского, В. Брюсова будут осознаны как входящие в состав русской научной фантастики. (Говоря об истории русской научной фантастики, нужно, конечно, учитывать и жанрообразующее воздействие творчества Ж. Верна и Г. Уэллса, весьма популярных в России). Жанр, оказывается, может быть старше себя самого: родившись и встав на ноги, он начинает отбрасывать своего рода интертекстуальную тень в прошлое, в котором происходит, так сказать, кристаллизация различных разрозненных текстов в новом жанровом пространстве, которое еще не существовало в эпоху создания таких текстов. На русской почве подобная судьба, вероятно, ожидает третью разновидность жанрово-обусловленной фантастики – фэнтези, своеобразную «сказку для взрослых». В отличие от литературной сказки и научной фантастики, имеющих давнюю традицию в нашей литературе, фэнтези популярна в западных литературах, где она развивается по меньшей мере уже в течение столетия. В первой половине 90-х годов огромное количество самых разных переводных произведений в духе фэнтези появляется на столе читателя, и вместе с ними в русскую «промежуточную» (между фольклором и классикой) культуру приходит еще одна разновидность массовой литературы, использующей жанрово-обусловленную фантастику.
Итак, научная фантастика, литературная сказка и отчасти фэнтези – три разновидности жанрово-обусловленной фантастики. Эти разновидности, по аналогии с фольклорной сказкой, можно рассматривать как самостоятельные жанры, объединенные в общую и единую систему.
Что объединяет и что разъединяет эти близкие, но не тождественные литературные жанры?
Прежде всего их объединяет само наличие фантастики в ее фольклорно-сказочной форме, парадоксальным образом сохранившейся в современной литературе (потому-то и можно говорить о единой жанровой системе).
Дело в том, что в фольклорной волшебной сказке фантастика носит твердый, сугубо определенный (не оставляющий у слушателя или читателя сомнения в «невозможности» изображаемого) характер. Это, по терминологии В. Н. Захарова, условная фантастика [8]. Условность фольклорно-сказочной фантастики определяется уже тем, что слушатель или читатель всегда проводит четкую и однозначную границу (часто просто эмпирически) между чудесным миром волшебной сказки и миром бытовой и исторической реальности. Эта граница как бы закрывает, ограничивает сказочное действие, что делает сам жанр сказки жестко закрытым (поэтому бесполезно спрашивать, что было до начала фольклорно-сказочного волшебного действия и что будет после его окончания). Такая жесткая закрытость и позволяет внутри сказочного мира изображать фантастику как норму этого мира. «Метод подачи чудесного как действительного, реализация фантастики, – все это характерные моменты русского сказочного повествования» [9]. А это, в свою очередь, создает ощущение его реалистичности, что уже неоднократно отмечалось: «Чудесное сказки есть чудесное могучих сил природы; в собственном смысле оно нисколько не выходит за пределы естественности» [10]; «…фантастика фольклора – реалистическая фантастика: она ни в чем не выходит за пределы реального, материального мира» [11], и поэтому, «как ни парадоксально, но фантастика – первое порождение реализма» [12].
Однако следует еще раз подчеркнуть, что фольклорно-сказочная фантастика (по только что процитированным буквально совпадающим словам А. Афанасьева и М. Бахтина) не выходит за пределы естественности, за пределы здешнего реального, материального мира лишь потому, что она, как мы отметили, ограничена этим миром и тем самым отграничена от него. Поэтому волшебно-сказочный фольклорный мир оценивается как чудесный только слушателем или читателем, герои же фольклорной сказки рассматривают свой мир (при всех его Змеях Горынычах, Кощеях Бессмертных, коврах-самолетах, молодильных яблоках и проч.) как вполне обыденный, не чудесный. Точки зрения героев сказки и слушателей на возможность или невозможность происходящего не совпадают, и из этого столкновения («да» ↔ «нет») рождается новая позиция «если», по замечанию Д. Н. Медриша, «того самого «если», который делает мир волшебной сказки таким устойчивым, цельным и осязаемым» [13].
Таким образом, «реалистическая», но «условная» фантастика волшебной сказки порождает реальность сказочного мира, но таковой она осознается лишь в пределах текста, это особая, сказочная реальность .
Общелитературная фантастика, первоначально усваивая сказочную реальность фольклорного типа, довольно быстро уходит от нее, вырабатывая уже собственно литературные способы «параллелизма фантастического и реального», создающие противоположную, более того, абсолютно противопоказанную народной сказке «завуалированную (неявную) фантастику» [14]. Фантастика Пушкина, Гоголя, Достоевского при всех индивидуальных отличиях «эволюционировала от подчеркнуто условных к завуалированным формам фантастического» [15], и на фоне этой эволюции фольклорный принцип сказочной реальности зачастую уже казался устаревшим, наивным, изжитым, преодоленным большой литературой. Однако эстетический потенциал этого принципа не исчез, он сохранился и даже упрочился в жанрово-обусловленных формах литературной фантастики, что и активизирует фольклорно-сказочный интертекст.
Фольклорные особенности сказочной реальности и определяют своеобразие фантастического в научной фантастике, литературной сказке, фэнтези. А это, в свою очередь, означает активизацию и других аспектов фольклорной волшебносказочной поэтики в интересующих нас жанрах. В частности, знаменитая «формула сказки», открытая и обоснованная В. Я. Проппом, приобретает фундаментальное интертекстуальное значение в сюжетике научной фантастики, литературной сказки и фэнтези. Это и понятно, ведь «все, что попадает в сказку, подчиняется ее законам» [16]. В огромном, если не подавляющем, количестве научно-фантастических и литературно-сказочных произведений бесконечно варьируется (с разной степенью отчетливости) проппов-ская схема развития сказочного действия. Ей так или иначе подчиняются, скажем, многие научнофантастические романы Ж. Верна, Г. Уэллса, почти все романы А. Беляева (особенно «Человек-амфибия» [17]), В. Обручева, А. Толстого, многие произведения А. и Б. Стругацких (от «Страны багровых туч» до «Жука в муравейнике»); логика фольклорной «формулы сказки» легко обнаруживается и в повестях-сказках А. Толстого («Золотой ключик»), А. Волкова («Волшебник Изумрудного города»), Э. Успенского («Вниз по волшебной реке»), романах-фэнтези Р. Хайнлайна («Дорога славы»), У. Ле Гуин («Волшебник Средиземья»), Д. Р. Толкиена («Властелин колец»).
Собственно, так и должно быть. В. Я. Пропп подчеркивал, что «можно самому создавать новые сюжеты искусственно в неограниченном количестве, причем все эти сюжеты будут отражать основную схему, а сами могут быть непохожими друг на друга» [18]. (В жанрово-обусловленных формах литературной фантастики так поступать писателя заставляет, конечно, не чтение трудов ученого, а необычайно крепкая и прочная архи-текстуальная память жанра). Не случайно Е. М. Мелетинский замечает, что «после фольклора наиболее проницаемым объектом для семиотики (в том ее понимании, которое восходит к проп-повским идеям. – Е. Н.) оказалась массовая литература и поэтика традиционных жанров» [19].
Думается, активизация фольклорно-сказочных принципов поэтики, обусловленных «сказочной реальностью» фантастики, в литературной сказке и фэнтези достаточно очевидна в силу единой сказочной природы жанров. Менее заметно это в научной фантастике, но и поэтика жанра, и анализ конкретных произведений убеждают в том, что у научной фантастики безусловно волшебно-сказочные корни [20].
Итак, наличие «сказочной реальности» фольклорного типа объединяет интересующие нас жанры в единую общую систему.
А что их разъединяет?
Фольклорная волшебная сказка выражает, как известно, патриархальное крестьянское мироощущение (с многочисленными реликтами первобытности). Естественно, что возникшие в новое и новейшее время жанрово-обусловленные формы фантастики манифестируют уже иные типы отношения человека к новой (но по-прежнему, по-фолькорному пропущенной через призму сказочной реальности) картине мира. В научной фантастике это отношение образует специфическое «научное мироощущение», в котором, необходимо подчеркнуть, главным будет не эмпирическая «буква», но сам рациональный «дух» науки. Поэтому «научное мироощущение», вопреки своему названию, не научный, а сугубо художественный тип восприятия мира [21]. В литературной же сказке реализуется иной, нежели в научной фантастике, тип мироощущения. Не случайно литературная сказка – по преимуществу детская сказка, хотя в хорошей литературной сказке всегда имеется и взрослый план содержания, что в высшей степени выразительно раскрывается в творчестве Андерсена и Пушкина. Детский адрес литературной сказки – это внешнее (и потому, можно сказать, резкое и крайнее) выражение ее аксиологии: мир в литературной сказке оценивается, как правило, с позиции «детского мироощущения». Конкретные формы выражения этого мироощущения, как и формы выражения «духа науки» в фантастике, бесконечно разнообразны: это может быть «детская ясность» решения «грозных вопросов морали» у Пушкина [22], изощренная логика «двуединого сюжета» [23] у Андерсена, превращающая простодушное замечание мальчика в «Новом платье короля» в гениальную формулу эпохи, глубинное выражение типологии детского характера в ситуации «познания мира» и «суда» над ним в сказочном эпосе К. Чуковского – примеров здесь столько, сколько авторов. В то же время, стоит только убрать «детскость» из жанровозначимой структуры литературно-сказочного текста, как сразу же изменится и сама жанровая доминанта. Так обстоит дело, например, в повести-сказке В. Шукшина «До третьих петухов, в которой «детское мироощущение» не играет жанрообразующей роли и поэтому перед читателем оказывается не столько собственно сказка, сколько философская притча, причем в тексте явственно проступают и черты пародии на волшебную сказку («антисказка»), и черты социально-психологической повести [24].
Обратимся теперь к фэнтези.
Е. Н. Ковтун видит отличие фэнтези от научной фантастики в следующем (литературную сказку в понятие «фантастики» она не включает): «Традиционно в отечественной науке различают два главных типа фантастики. Их отличие восходит к приведенному нами в начале статьи определению И. Анненского. Тем, «чего не бывает» , то есть на данный момент не наблюдается в реальности (но в перспективе или в принципе может в ней появиться), занимается т. н. научная фантастика (НФ; западный аналог термин science fiction ). Тем же, чего с точки зрения современных научных представлений о мире «вообще не может быть» – фэнтези (русская огласовка западного термина fantasy)» [25].
Это рассуждение, при всей его логичности, можно оспорить. Если вспомнить об «усилении» определения И. Анненского, о котором речь шла в начале статьи, то получается, что фантастический вымысел не может реализоваться в реальности никогда, ни в научной фантастике, ни в фэнтези. В самом деле, бесспорно, роман Ж. Верна «Двадцать тысяч лье под водой» относится к твердой научной фантастике, но фантастический вымысел произведения никогда не может воплотиться в действительности, ибо «Наутилус» капитана Немо плавает в океане XIX века и именно на этом соединении несоединимого (а не на образе подводной лодки – образе изначально не фантастическом) и строится фантастика романа.
Видимо, отличие фэнтези от научной фантастики следует искать в другом. Эта разновидность жанрово-обусловленной фантастики лишена четких жанровых границ: под фэнтези понимают и своеобразный синтез научной фантастики и литературной сказки, и современную волшебную сказку для взрослых, построенную на материале различных национальных мифологических и фольклорных традиций, и обширную область различных, как их называет Д. Сувин, «фантастических историй». В последнем случае фэнтези оказывается жанром, «который занимается тем, что протаскивает в эмпирический мир законы, противоречащие духу познания» [26], но в любом случае аксиологическим центром мироощущения в мире фэнтези оказывается сама «сказочная реальность». Сказка в фэнтези как бы утверждает саму себя в качестве некоей системы координат. Такой тип художественного мироощущения условно можно было бы назвать «волшебным» или «магическим» [27].
Таким образом, возникает пусть и условногипотетические, но вполне определенные формулы жанровой доминанты в различных формах фантастики:
-
а) «сказочная реальность» + «дух науки» («научное мироощущение») -> НФ [28],
-
б) «сказочная реальность» + «детскость» («детское мироощущение») -> ЛС [29],
-
в) «сказочная реальность» + «сказочная реальность» («волшебное мироощущение») -> фэнтези.
Эти элементарные формулы, конечно же, не отражают многих существенных нюансов поэтики жанров, но они позволяют увидеть то главное, что составляет жанровую определенность научно-фантастического романа или повести-сказки, то, что составляет уровень их жанрового содержания.
Последнее необходимо сразу же подчеркнуть: речь идет лишь о жанровом содержании, обусловленном, как видно из наших формул, «сказочной реальностью», то есть, подчиненном законам фольклорно-сказочной поэтики. Это – та область жанрового пространства, которая не подвластна воле писателя, дана ему традицией и интертекстуально закреплена в ее памяти. Но ведь в хорошем научно-фантастическом или сказочном романе всегда есть нечто и не научное, и не сказочное, и не фантастическое. Писатель волен (и уж здесь он – полновластный хозяин!) надстраивать над уровнем жанрового содержания любые другие уже индивидуально-авторские уровни, которые вступают в диалогические отношения с исходным жанровым уровнем. Поэтому конкретное фантастическое произведение строится как взаимодействие (порой конфликтное) двух различных поэтических систем: первая (отраженная в наших формулах) придает тексту жанровую определенность (определенность сказки – научной ли, детской ли, мифопоэтиче- ской ли – все равно сказки), а вторая подчиняется не фольклорно-сказочным закономерностям, а, являясь полностью индивидуальноавторской, отражает уникальное своеобразие творческой манеры писателя. Как отмечает И. П. Смирнов, «новый текст, если он эстетически отмечен, нацелен на то, чтобы констатировать в используемом им литературном материале повторяемость и прервать её» [30]. Первая система как раз и констатирует повторяемость, а вторая (индивидуально-авторская) прерывает её.
Существенно подчеркнуть, что все три формы жанрово-обусловленной фантастики носят рациональный характер (хотя обычно рациональной считается лишь научная фантастика).
Рациональность жанрово-обусловленных фантастических форм может быть обоснована структурным подобием «магического» и «научного» мировосприятия, давно замеченным мифологами и фольклористами. Важно также учитывать и психологическую точку зрения. Как замечает К. Г. Фрумкин, «если человек пытается отнестись к вымышленному миру как к подлинному, то эта попытка самообмана терпит крах, поскольку виртуальный мир не может по-настоящему основательно подтвердить своей подлинности. Но если человек относится к фантастике просто как к фантастике, т. е. как к лишенному материального бытия дополнению подлинной реальности, то тем самым он обнаруживает способ внести в мир альтернативность, несмотря на то, что единственность нашей реальности хорошо охраняется, и охрану эту мы преодолеть не в силах» [31].
Именно преодоление непреодолимого – рациональное создание альтернативы нашей реальности (в рамках фантастического текста), которая не имеет альтернативы (в рамках самой реальности), и делает мир фантастики универсальным полигоном для испытания различного рода художественных конструкций, направленных на преодоление нашей человеческой ограниченности во Времени и Пространстве. Это, в конечном счете, и обеспечивает фантастике массовую популярность.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ПРИМЕЧАНИЯ
-
1. Ковтун Е . Н . Фантастика как объект научного исследования: проблемы и перспективы отечественного фантасто-ведения // Русская фантастика на перекрестке эпох и культур: Материалы Международной научной конференции 21–23 марта 2006 года. М., 2007. С. 29.
-
2. Кагарлицкий Ю . Что такое фантастика? М., 1974. 370 с.
-
3. Молчанов А . В . Традиционная научная фантастика на рубеже тысячелетий // Русская фантастика на перекрестке эпох и культур. С. 148.
-
4. Ковтун Е . Н . Цит. соч. С. 20.
-
5. Медведев Ю . М . О летописцах мечты // Осипов А. Н. Библиография фантастики. Опыт историкоаналитической и методико-теоретической характеристики. М., 1990. С. 3.
-
6. Шмалько А . Фанстрим, или Завтрак в Фонтенбло // Фантастика 2006. Вып. 2. М., 2006. С. 509.
-
7. Неёлов Е . М . Волшебно-сказочные корни научной фантастики. Л., 1986. С. 30.
-
8. Захаров В . Н . Условность и фантастика: взаимоотношение категорий // Жанр и композиция литературного произведения. Петрозаводск, 1986. С. 51.
-
9. Лупанова И . П . Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины ХIХ века. Петрозаводск, 1959. С. 97.
-
10. Афанасьев А . Поэтические воззрения славян на природу. Т. I. М., 1865. С. 55.
-
11. Бахтин М . Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 300.
-
12. Фрейденберг О . М . Миф и литература древности. М., 1978. С. 84.
-
13. Медриш Д . Н . Литература и фольклорная традиция: вопросы поэтики. Саратов, 1980. С. 70.
-
14. Манн Ю . В . Поэтика Гоголя. М., 1978. С. 59.
-
15. Захаров В . Н . Фантастическое как категория поэтики Достоевского семидесятых годов // Жанр и композиция литературного произведения. Петрозаводск, 1981. С. 53.
-
16. Пропп В . Я . Морфология сказки. М., 1969. С. 102.
-
17. На первый взгляд при безусловном присутствии сказочных мотивов, определяющих развитие действия в беляевском романе (подробно см. об этом: Неёлов Е. М. Фольклорная волшебная сказка и научная фантастика: анализ художественного текста. Петрозаводск, 1986. С. 59–78), финал «Человека-амфибии» кажется несказочным: Ихтиандр навсегда уходит в море. Однако дочь писателя вспоминает в своих мемуарах, что А. Р. Беляев придумал продолжение романа, которое охотно рассказывал друзьям, и в этом продолжении все заканчивается, как и полагается в фольклорной волшебной сказке, свадьбой добрых героев. «Ихтиандр добрался до старого друга профессора Сальватора. Там Ихтиандр встретил такую же, как он, девушку, и они поженились» (Беляева Светлана. Звезда мерцает за окном… // Фантастика-94. М., 1994. С. 331).
-
18. Пропп В . Я . Морфология сказки. М., 1969. С. 101.
-
19. Мелетинский Е . М . К вопросу о применении структурно-семиотического метода в фольклористике // Семиотика
и художественное творчество. М., 1977. С. 166–167.
-
20. Подробно см.: Чернышева Т. А. О старой сказке и новейшей фантастике // Вопросы литературы. 1977, № I; Неёлов Е. М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики. Л., 1986.
-
21. Подробно см.: Неёлов Е. М. О мере научности научной фантастики // Жанр и композиция литературного произведения. Петрозаводск, 1989. С. 167–176
-
22. Непомнящий В. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. М., 1987. С. 223.
-
23. Сильман Т . Сказки Андерсена // Г. Х. Андерсен. Сказки и истории. Т. I. Киев, 1973. С. 21.
-
24. Липовецкий М . Поэтика литературной сказки. Свердловск, 1989. С.128–137.
-
25. Ковтун Е . Н . Цит. соч. С. 30.
-
26. S uv i n D . Zur Poetik des literarischen Genres Science Fichtion // Science Fiction. Theorie und Geschichte. Munchen, 1972. S. 91.
-
27. В известной степени систематизированное изложение особенностей такого мироощущения дает эссе Д. Р. Толкиена «О волшебных сказках» (Утопия и утопическое мышление. М., 1989. С. 277–299). См. также: Толкиен Д. Р. Лист работы Мелкина и другие волшебные сказки. М., 1991. С. 249–296.
-
28. Ср.: Д. Сувин пишет, что «необходимым и достаточным условием» научной фантастики как литературного жанра является «наличие и взаимодействие остранения и познания» (Suvin D. Zur Poetik des literarischen Genres Science Fiction. S. 90).
-
29. Поэтому литературная сказка – самый детский жанр в детской литературе.
-
30. Смирнов И . П . Порождение интертекста. СПб., 1994. С. 19.
-
31. Фрумкин К . Г . Философия и психология фантастики. М., 2004. С. 101.
Список литературы Еще раз о жанровой специфике фантастической литературы
- Ковтун Е. Н. Фантастика как объект научного исследования: проблемы и перспективы отечественного фантастоведения//Русская фантастика на перекрестке эпох и культур: Материалы Международной научной конференции 21-23 марта 2006 года. М., 2007. С. 29.
- Кагарлицкий Ю. Что такое фантастика? М., 1974. 370 с.
- Молчанов А. В. Традиционная научная фантастика на рубеже тысячелетий//Русская фантастика на перекрестке эпох и культур. С. 148.
- Ковтун Е. Н. Цит. соч. С. 20.
- Медведев Ю. М. О летописцах мечты//Осипов А. Н. Библиография фантастики. Опыт историко-аналитической и методико-теоретической характеристики. М., 1990. С. 3.
- Шмалько А. Фанстрим, или Завтрак в Фонтенбло//Фантастика 2006. Вып. 2. М., 2006. С. 509.
- Неёлов Е. М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики. Л., 1986. С. 30.
- Захаров В. Н. Условность и фантастика: взаимоотношение категорий//Жанр и композиция литературного произведения. Петрозаводск, 1986. С. 51.
- Лупанова И. П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века. Петрозаводск, 1959. С. 97.
- Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. Т. I. М., 1865. С. 55.
- Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 300. Еще раз о жанровой специфике фантастической литературы 105
- Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М., 1978. С. 84.
- Медриш Д. Н. Литература и фольклорная традиция: вопросы поэтики. Саратов, 1980. С. 70.
- Манн Ю. В.Поэтика Гоголя. М., 1978. С. 59.
- Захаров В. Н. Фантастическое как категория поэтики Достоевского семидесятых годов//Жанр и композиция литературного произведения. Петрозаводск, 1981. С. 53.
- Пропп В. Я.Морфология сказки. М., 1969. С. 102.
- Пропп В. Я.Морфология сказки. М., 1969. С. 101.
- Мелетинский Е. М. К вопросу о применении структурно-семиотического метода в фольклористике//Семиотика и художественное творчество. М., 1977. С. 166-167.
- Чернышева Т. А. О старой сказке и новейшей фантастике//Вопросы литературы. 1977, № I; Неёлов Е. М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики. Л., 1986.
- Неёлов Е. М. О мере научности научной фантастики//Жанр и композиция литературного произведения. Петрозаводск, 1989. С. 167-176
- Непомнящий В. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. М., 1987. С. 223.
- Сильман Т. Сказки Андерсена//Г. Х. Андерсен. Сказки и истории. Т. I. Киев, 1973. С. 21.
- Липовецкий М. Поэтика литературной сказки. Свердловск, 1989. С.128-137.
- Ковтун Е. Н. Цит. соч. С. 30.
- Suvin D. Zur Poetik des literarischen Genres Science Fichtion//Science Fiction. Theorie und Geschichte. Munchen, 1972. S. 91.
- В известной степени систематизированное изложение особенностей такого мироощущения дает эссе Д. Р. Толкиена «О волшебных сказках» (Утопия и утопическое мышление. М., 1989. С. 277-299). См. также: Толкиен Д. Р. Лист работы Мелкина и другие волшебные сказки. М., 1991. С. 249-296.
- Д. Сувин пишет, что «необходимым и достаточным условием» научной фантастики как литературного жанра является «наличие и взаимодействие остранения и познания» (Suvin D. Zur Poetik des literarischen Genres Science Fiction. S. 90).
- Поэтому литературная сказка -самый детский жанр в детской литературе.
- Смирнов И. П. Порождение интертекста. СПб., 1994. С. 19.
- Фрумкин К. Г. Философия и психология фантастики. М., 2004. С. 101.