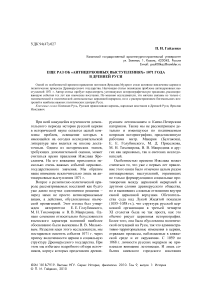Еще раз об «антицерковных выступлениях» 1071 года в Древней Руси
Автор: Гайденко Павел Иванович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
Одной из особенностей времени правления потомков Ярослава Мудрого стало активное вовлечение церкви в политические процессы Древнерусского государства. Настоящая статья посвящена проблеме антицерковных выступлений 1071 г. Автор статьи пробует пересмотреть устоявшуюся историографическую традицию, рассматривающую события тех лет как языческие восстания. По мнению исследователя, эти мятежи связаны не только с экономической и политической деятельностью церковной иерархии, но и с распространением богомильских воззрений в наиболее важных политических центрах Руси.
Киевская русь, русская православная церковь, народные восстания в древней руси, ярослав изяславич
Короткий адрес: https://sciup.org/14737208
IDR: 14737208 | УДК: 94(47).027
Текст научной статьи Еще раз об «антицерковных выступлениях» 1071 года в Древней Руси
При всей кажущейся изученности домонгольского периода истории русской церкви в исторической науке остается целый комплекс проблем, освещение которых в имеющейся на сегодня исследовательской литературе нам видится не вполне достаточным. Одним из исторических этапов, требующих дополнительной оценки, может считаться время правления Изяслава Ярославича. На его княжение приходится несколько очень важных событий церковногосударственного значения. Мы обратим наше внимание исключительно лишь на ан-тицерковные выступления 1071 г.
Вопрос о религиозно-политической природе рассматриваемых восстаний как будто уже давно получил однозначное решение – перед нами не просто антиклерикальные акции, а действия, обусловленные языческой пропагандой. Этот взгляд был утвержден авторитетом Е. Е. Голубинского, М. Н. Тихомирова и В. В. Mавродина. Однако сомнения относительно безусловности языческого характера волнений наиболее обоснованно были высказаны В. В. Милько-вым. Разделяя идеи этого исследователя, мы постараемся осветить события 1071 г. через призму включенности церкви в социальную структуру Древнерусского государства. При этом мы избегаем подробного обзора источников, корпус которых представлен древне- русским летописанием и Киево-Печерским патериком. Также мы не рассматриваем детально и имеющуюся по поднимаемым вопросам историографию, представленную работами митр. Макария (Булгакова), Е. Е. Голубинского, М. Д. Приселкова, М. Н. Тихомирова, В. В. Мавродина и других как церковных, так и светских исследователей.
Особенностью времени Изяслава может считаться то, что уже с первых лет правление этого князя было отмечено целым рядом антицерковных выступлений, отразивших не только формирующиеся социальные противоречия между церковной иерархией и другими слоями древнерусского общества, но и выявивших сложные отношения внутри самой церковной верхушки. Обстоятельства суда над Лукой Жидятой показали (1055–1058 гг.), что структура русской церковной организации в третьей четверти XI столетия была не так проста, как это обычно рисует церковная историография. Более того, она была обусловлена политической ситуацией на Руси, так что административно-территориальные изменения в церкви, отражали процессы, наблюдаемые в княжеской среде и ее окружении. С 1059 по 1068 г. личности русских иерархов не привлекали внимание летописцев. И лишь события киевского городского восстания
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 1: История
1068 г., ознаменовавшегося изгнанием из Киева великого князя Изяслава, оставили свой след и в церковной истории. В то лето в Киеве своими холопами был убит Новгородский епископ Стефан: «А Стефана в Киеве свои холопе удавишя; бе в иеписко-пьи 8 лет» 1.
В первые сто лет деятельности церковной организации на Руси греческое и русское духовенство чаще всего уклонялось от участия в вечевых собраниях и не вмешивалось в народные мятежи. Что же касается деятельности Печерского монастыря, то она, наоборот, с самого начала своего существования оказалась тесно связанной с внутриполитическими и социальными конфликтами XI столетия. Основатели монастыря и многие его насельники по своему социальному происхождению были хорошо знакомы с противоречиями внутри великокняжеской семьи и ее окружения.
Печерский патерик сообщает, что Антоний первоначально (вероятно, ок. 1015–1016 гг.) поселился в пещере вблизи княжеского замка в Берестове. Однако «по сих же престав-лешуся князю Володимеру, и приа власть безбожный и окаянный Святополк <…>. Антоний же, веде таковое кровопротитие, иже сдеа окааный Святплк, паки бежа в святую Гору» [Киево-Печерский патерик, 2004. С. 316]. Хотя древнерусское летописание не отмечает событий, которые указывали бы на то, что Святополк каким-либо образом угрожал киевлянам или дружинникам отца, однако бегство Антония указывает на то, что подвижник не чувствовал себя в безопасности в пригороде Киева и был категорически не согласен со сложившейся политической ситуацией. Не стоит забывать, что Антоний назван в патерике «мужем» [Там же], т. е. представителем знати.
Вовлечению иночества в политическую жизнь Руси способствовало то, что в своем подавляющем большинстве русское монашество происходило из местного населения. Все это в совокупности с нестяжательно-стью, установленной преподобными Антонием и Феодосием в Печерской обители, немало способствовало сближению монашеской среды с боярством и княжеской семьей.
Доверие знати к иночеству выразилось не только в том, что киевские монастыри и особенно Печерская обитель были местом отдыха представителей знати и местом, куда они могли прийти за благословением, духовным и политическим советом, но и в том, что из стен того же Печерского монастыря в домонгольской Руси вышло около 50 архиереев. И именно киевские Выдубиц-кий и Печерский монастыри стали местом составления первых общерусских сводов [Шахматов, 2001. С. 9–10]. Панегирики в адрес умерших князей особо сообщали, что те «любили» монашествующих, чего нельзя сказать о высшем духовенстве. Лишь в 1093 г. в известиях о смерти Всеволода впервые будет сказано, что тот «воздая честь епископом» 2. Примечательно, что Всеволод – первый великий князь, на похоронах которого наконец-то было отмечено присутствие епископата 3.
Об особых доверительных отношениях боярства с этой обителью свидетельствует сохраненное в Печерском патерике житие варяга Шимона [Смирнов, 1913. С. 23]. Шимон и его семья не только обращались в обитель по духовным вопросам, но и были погребены там [Киево-Печерский патерик, 2004. С. 299, 301]. Если некрополи Десятинного и Софийского храмов изначально формировались как княжеские, то некрополь Успенского собора в Печерской обители – начинался как боярский (дружинный), и лишь с XII в. здесь находили упокоение останки князей и архиереев [Ивакин, Балакин, 2005. С. 88]. В целом статус архиереев и высшего духовенства обеспечивался расположением к нему (или нерасположенно-стью) со стороны местных элит и князя.
Особое внимание летописцев привлекли события, связанные с волнениями в 1071 г. в Киеве, в Ростовской и Белоозерских землях и Новгороде. Практически во всех перечисленных случаях упоминания о священнослужителях были связаны с действиями княжеской администрации. Одной из причин, повлекших участие княжеской администрации в церковных делах, стала деятельность неких «волхвов».
События 1071 г. начинаются известием о том, что в Киеве появился некий «волхв прелщен бесом». Этот волхв пугал жителей столицы тем, «что на пятый год Днепр потечет вспять и что земли начнут переме- щаться, что Греческая земля станет на место Русской, а Русская на место Греческой, и прочие земли переместятся» 4. При всей фантастичности речей слова проповедника носили скорее политический, чем религиозный смысл, о котором писал Е. Е. Голубинский. Он полагал, что в словах летописца «должно видеть именно одного из прямых нарочито выступивших, борцов за язычество против христианства», а речь волхва «имеет тот смысл, что-де русская земля, чтобы избежать угрожающих христианам зол, снова должна возвратиться к язычеству» [Голубинский, 1901. С. 212].
В. Г. Васильевский думал иначе, полагая, что речи волхва возникли под впечатлением половецкого вторжения [Васильевский, 1908. С. 26]. Но можно ли считать «волхвов» духовными «вождями» язычников? В их речи нет ничего «языческого». Суть пророчеств (если основываться на известиях ПВЛ) указывает, что она скорее исполнена эсхатологического, а не языческого содержания [Гайденко, 2006. С. 121]. Для христианских народов Европы XI–XIII вв. ожидание Страшного Суда было вполне естественным [Алексеев, 2006].
Летописание повествует, что волхв нашел поддержку у части жителей столицы: «его же невегласи послушаху, верни же на-смехаються». Но оправданно ли понимать под теми, кто наименован «невегласи», язычников или «двоевериных»? Сомнительно. В равной степени здесь можно обнаружить отсылку к новозаветным «младенчествую-щим» христианам, неспособным принимать твердый хлеб церковного учения. Так что мы более склонны считать, что волхв (в евангельском варианте волхвы не язычники, а мудрецы и цари) – один из странствующих еретиков, эсхатологический тон проповеди которого указывает на богомильство.
Как долго проповедовал волхв в Киеве, не известно, но, как сообщает ПВЛ, в одну из ночей он исчез 5. Вероятно, это произошло не без воли киевских властей, не решившихся избавиться от смутьяна днем, и совершивших устранение волхва ночью [Мавродин, 1961. С. 37]. Проповеди подобные этой не отмечены ни в одной из столиц двух других уделов: Чернигове и Переяс- лавле, а только в Киеве, причем не только в самой столице, но и Новгороде [Гайденко, 2006. С. 120–121]. Описываемый сюжет с киевским волхвом обнаружил слабость княжеской власти в Киеве и недоверие жителей столицы к Изяславу [Толочко, 1987. С. 89].
Следующее известие о двух волхвах из Ярославля связано с волнениями в Ростовской земле. Как и в 1024 г. 6, волнение было вызвано «скудостью», или неурожаем. Пришедшие из Ярославля волхвы обманом грабили и убивали «лучших жен», живших в погостах.
Наиболее полное обоснование языческой сути восстания и язычества волхвов предложил Е. Е. Голубинский. В дальнейшем М. Н. Тихомиров и В. В. Мавродин лишь повторили его положения [Мавродин, 1961. С. 62; Тихомиров, 1975. С. 107]. Но можно ли считать «идеологической основой» этого восстания язычество? Сомнительно. Мы не видим в этом волнении антихристианских высказываний. На тех, кто примыкал к волхвам или были свидетелями их шарлатанства, впечатление производила не проповедь, о которой в летописании нет и речи, а чувство голода и «мечтания», во время которых волхвы прорицали: «И пакы поидоста по Возе; где приидоста в погост, и ту нари-цающа лучьшая жены и глаголюща, яко сия жена жито держить, и сия мед, а си рыбы, а сия же скору. И привожаху к нима сестры своя и матери и жены своя, онема же мечтанием своим прорезавшее за плечима выни-маста любо жито, или рыбу или веревицю; и убивашета многы жены, и имениа их взи-машета собе» 7. Вопрос о том, что такое «мечтание», в исторической и филологической науке так и не был поставлен и разрешен. Возможно, это некая харизматическая молитвенная практика, сопровождавшаяся неизвестными нам магическими действиями и «пророчествованиями».
Между тем к Белоозеру пришло уже 300 восставших. Именно здесь они столкнулись с малой дружиной, состоявшей из 12 «отроков» Яня Вышатича, собиравшего дань Святославу. Обратим внимание на известия о гибели священника. Считается, что христианизация жителей сельских районов произошла только к концу XIV в. В XI–XII вв. основ- ным местом сосредоточения христианской жизни был город. Лишь сеть погостов, покрывавших большую часть древнерусских земель, вероятнее всего, были теми центрами, где могли быть новообращенные из числа смердов.
В этом отношении показателен диалог между Янем в волхвом, после ареста последнего. Содержание беседы указывает скорее не на язычество волхва, а, наоборот, на знакомство этого волхва с какими-то апокрифическими, скорее всего богомильскими, христианскими текстами. «Бог мыв-ся в мовници и вспотився от ся ветхом. и верже с небесе на землю и распреся сотона с Богомь. кому в немь створити человека. и створи дыявол человека. а Бог душю в не вложи. темже аще умреть человек в землю идеть тело. а душа к Богу» 8. На богомильскую «догматику» указывает дуализм. Основываясь на апокрифических текстах, бытовавших в Древней Руси, В. В. Мильков пишет о некотором безразличии восточных славян к богомильскому дуализму, на их склонности к рассмотрению проблем этического и социального свойства [Мильков, 1999. С. 102–103]. Если эти слова действительно принадлежали волхву, а не были позднейшей фантазией летописца, то представленный текст действительно ничего не говорит об интересах самих восставших к темам, имевшим отношение к проблемам дуализма. Но то, что их вождь проявлял этот интерес, нам очевидно.
Поэтому мы не исключаем той возможности, что формальная христианизация села могла произойти уже в первые десятилетия после официального крещения великого князя Владимира и Киева. Однако успех такого «повсеместного» приведения ко Христу жителей деревни, вероятно, был очень «скромен». Сообщив о том, как Янь расправился с мятежниками, ПВЛ как бы между прочим сообщила: «они же бежаша в лес и убиша ту попа Янева» 9. Мотивов убийства священника летопись не сообщает. А. И. Алексеев, пытаясь понять религиозные мотивы восстания и убийства «попа», задался вопросом, «не являлось ли его (священника. – П. Г. ) гибель ритуальным убийством служителя чуждого языческим бога?»
[Алексеев, 2006. С. 249]. Поскольку о жизни рядового духовенства в Древней Руси мы знаем крайне мало, известие о смерти безымянного священника приобретает особую ценность.
Под тем же 1071 г. ПВЛ сохранила еще одно известие о мятеже, направленном против новгородского епископа Феодора: «Сиць бе волхв встал при Глебе Новегоро-де; глаголеть бо людем, творяся акы богъ, и многы прельсти, мало не всего града, глаго-лашеть бо, яко “проведе вся”; и хуля веру хрестьянскую, глаголашеть бо, яко “Пере-иду по Волхову пред всеми”. И бысть мя-тежь в граде, и вси яша ему веру, и хотяху погубити епископа» 10. Принято считать, что произошедшее событие связано с языческими недовольствами. Но ничто в этом известии, кроме параллели с Симоном-волхвом, который в агиографическом повествовании все же больше ассоциировался с ранними гностиками, не указывает на язычество вождя волнения. Здесь трудно говорить даже о двоеверии [Данилевский, 2001. С. 217–225].
Все обвинения в адрес волхва могут говорить о том, что перед нами не язычник, а еретик. То, что волхв «творяси аки бог», может быть рассмотрено и в другой плоскости: перед нами пример харизмата, претендующего на свою «идентичность» Христу. Это видно уже из следующих слов летописи, говорящих об обещании проповедника пройти через Волхов. Явная параллель с хождением Иисуса Христа по водам. Целью восставших были не рядовое духовенство, ни храмы и монастыри, а епископ. Все это указывает на социальное недовольство, которое также было свойственно именно богомильскому движению, хоть и очень близкому к народным верованиям славян, но бывшему по своей сути – христианским [Гайденко, 2006. С. 121]. Традиционно принято считать, что впервые богомильство появится на Руси, причем в Киеве, уже в 1004 г. [Доброклонский, 2001. С. 59].
Не имея возможности умирить мятежников, новгородский владыка облачился в ризы и вышел к горожанам, обратившись со словами: «иже хощеть веру яти волхву, то да идеть за нь; аще ли верует кто, то ко кресту да идеть» 11. Обращение епископа к авторитету креста и отсутствие каких-либо обличений каких бы то ни было языческих представлений восставших также указывает на то, что перед нами не языческий мятеж, а нечто иное. Далее летопись повествует: «и разделишася надвое – князь бо Глеб и дружина его идоша и сташа у епископа, а людье вси идоша за волхва» 12. Описанные обстоятельств новгородского мятежа рисуют очень интересную картину церковной жизни в Новгороде. В трудный час рядом с епископом нет ни игуменов, ни духовенства, ни монашества. Монашество и духовенство, согласно летописям, вообще не оказались вовлеченными мятеж. Получается, что недовольство горожан было направлено не против церкви, а против епископа.
Убийство священника в белоозерской земле и восстание в Новгороде могут многое рассказать о церковном устройстве русской митрополии и о епископском управлении в северо-восточных районах Древнерусского государства. Во-первых, случай с «попом» Яна Вышатича в какой-то мере может указывать на то, что священнослужители могли находиться не только в канонической юрисдикции епархиальных архиереев, но и светских лиц. Во-вторых, в качестве одной из причин отсутствия успехов в миссионерской деятельности русской церковной организации может быть признано то, что христианская проповедь в сельской местности практиковалась в период сбора дани или полюдья, что никак не способствовало утверждению христианства среди смердов. В-третьих, события в Новгороде и Ростовской земле свидетельствовали не только об отсутствии в этот период высокого авторитета церковных иерархов, но и о распространении на северо-востоке Руси неких христиански еретических (скорее всего богомильских) воззрений как среди горожан, так и среди жителей сел. В-четвертых, антицерковный характер мятежа в белоозерской земле и Новгороде уже не имел явной антихристианской направленности, как это было во времена Иоакима Корсунянина, и был обусловлен недовольством социальной жизнью церковных иерархов.
ONCE AGAIN ABOUT «ANTICHURCH PERFORMANCES» 1071